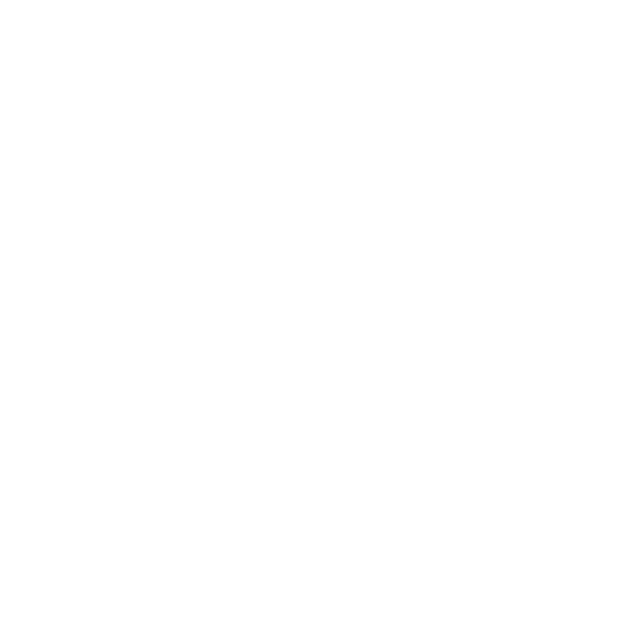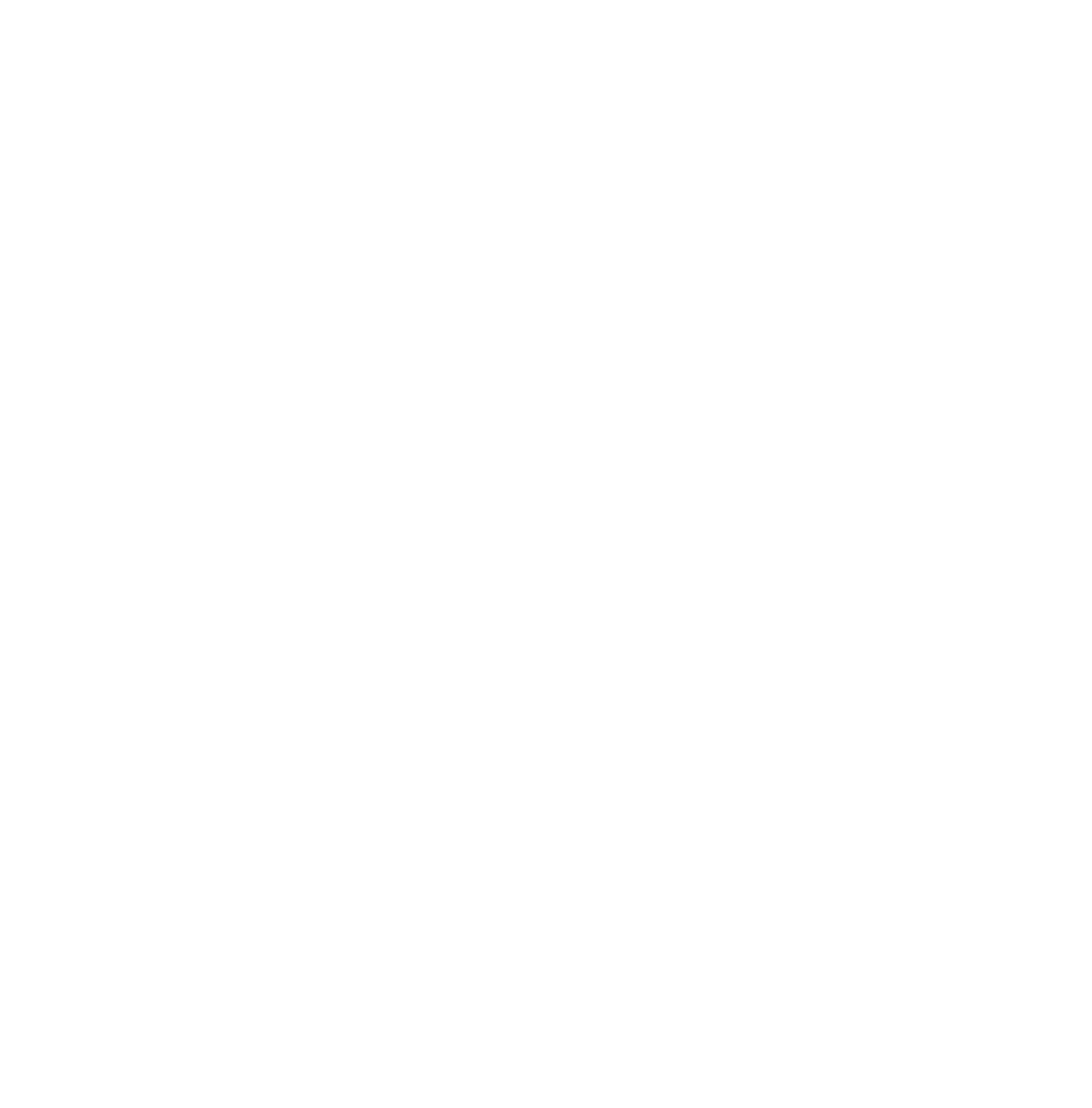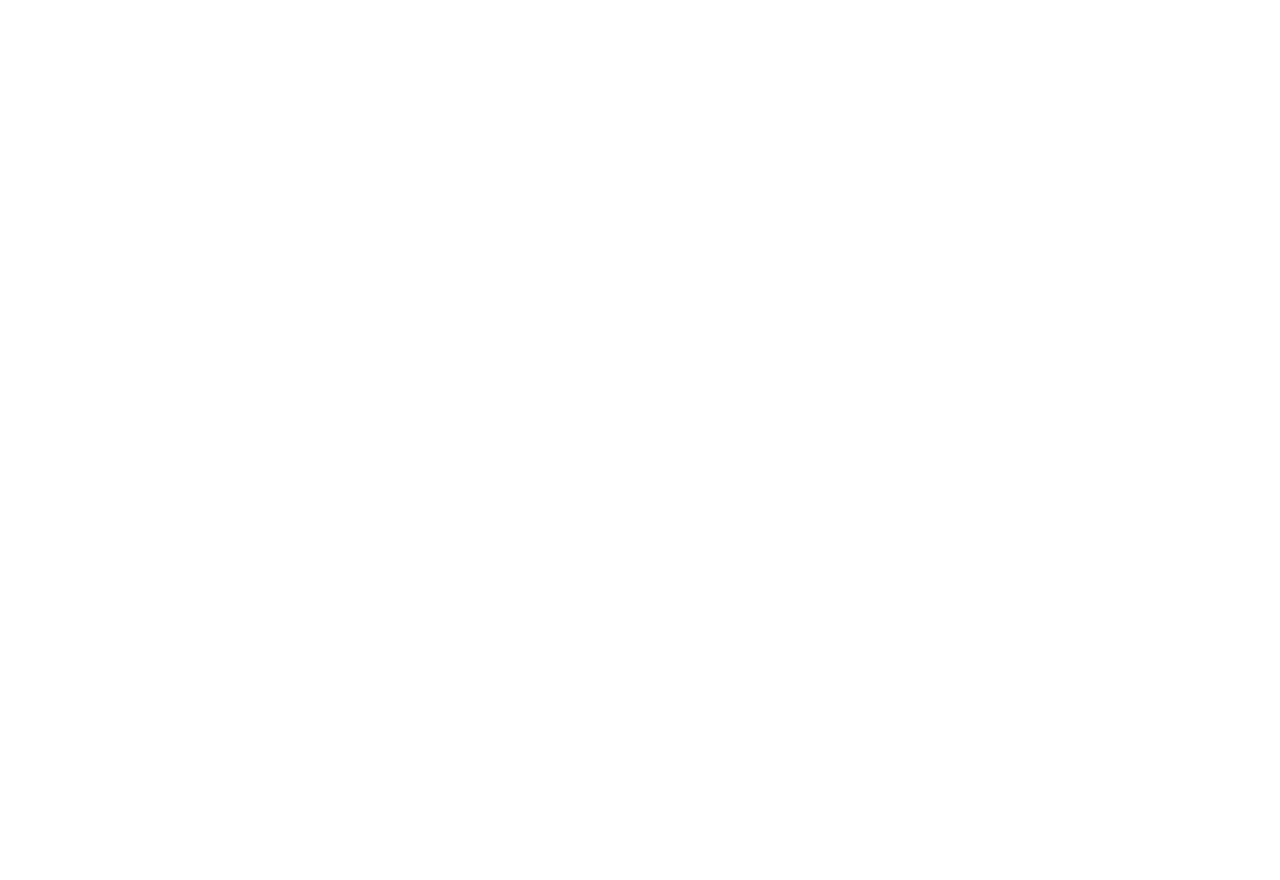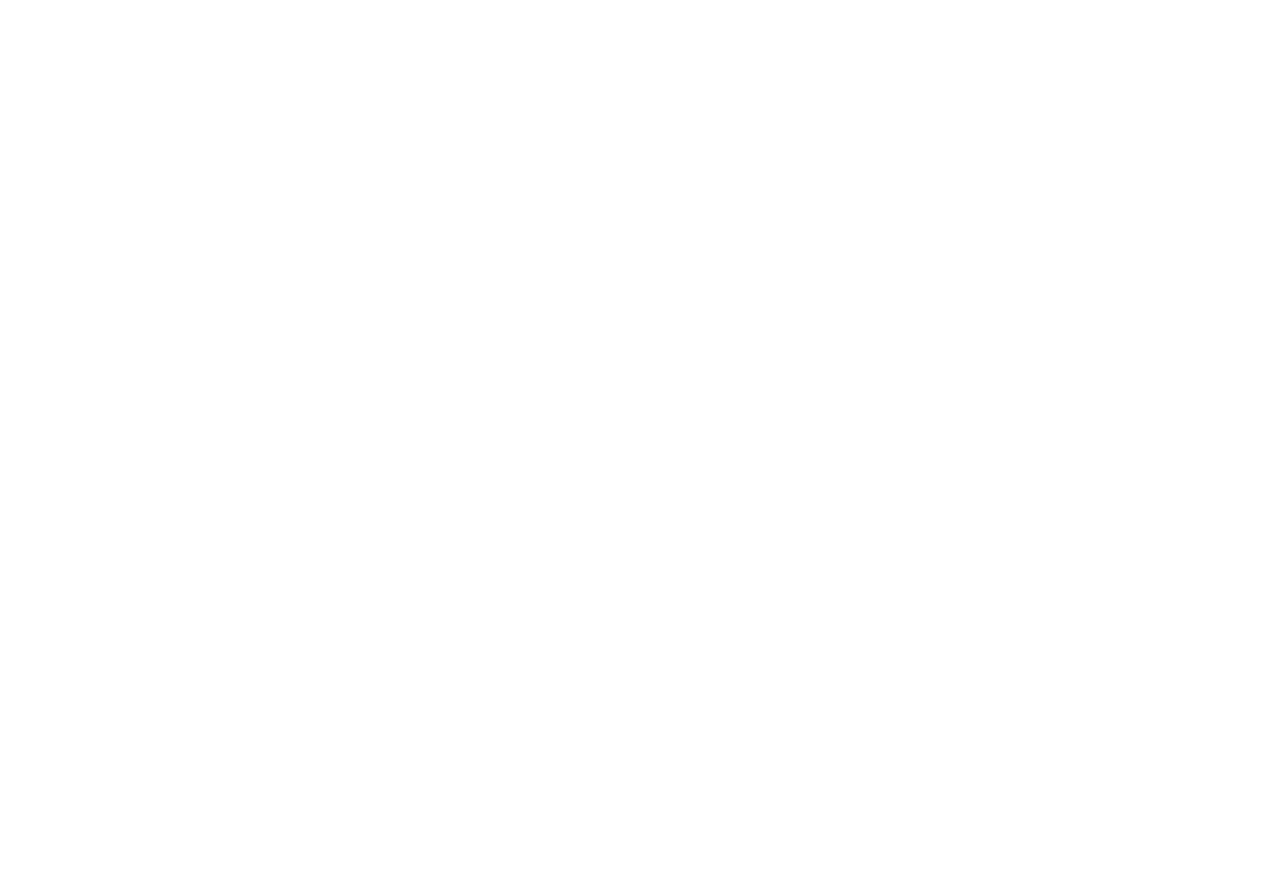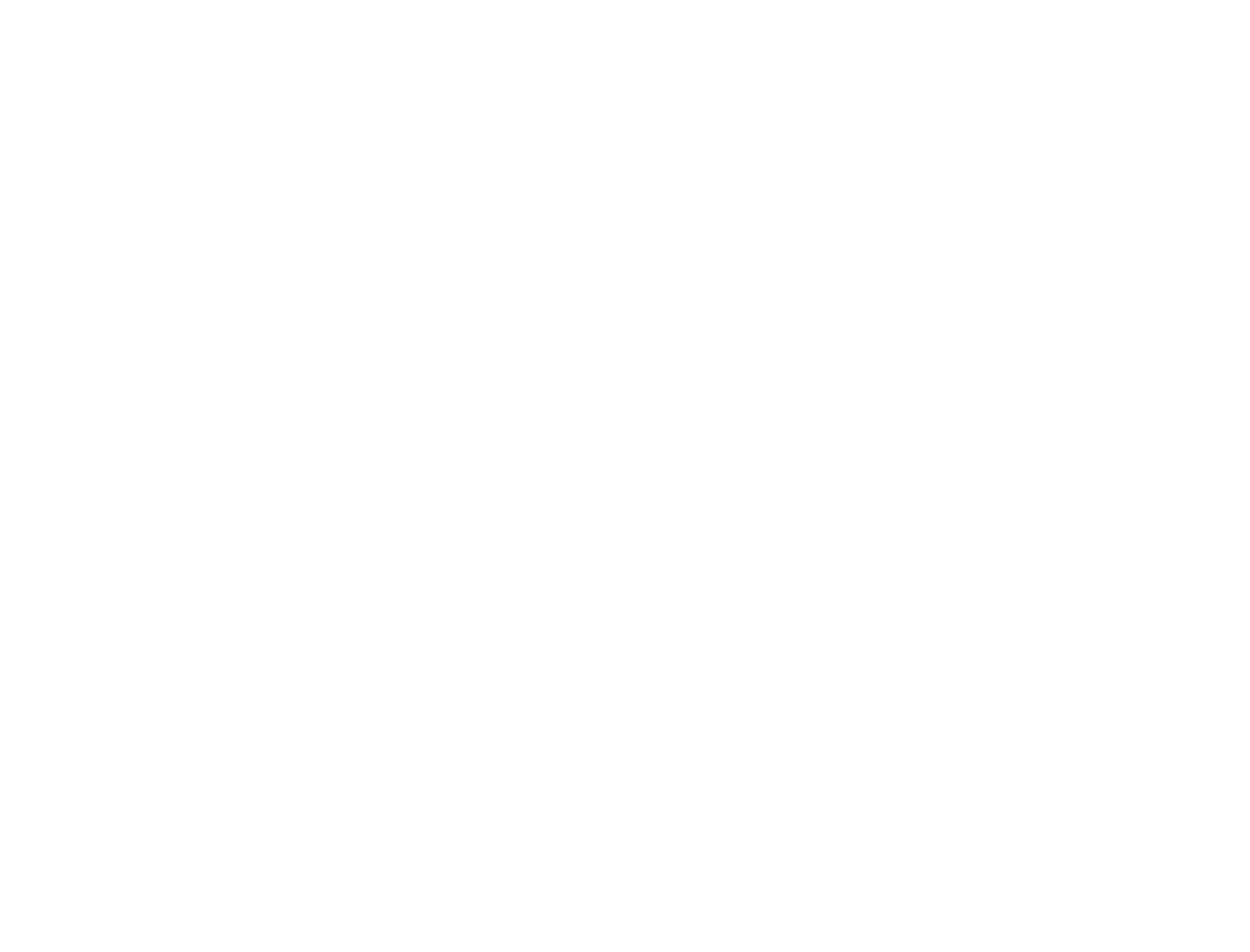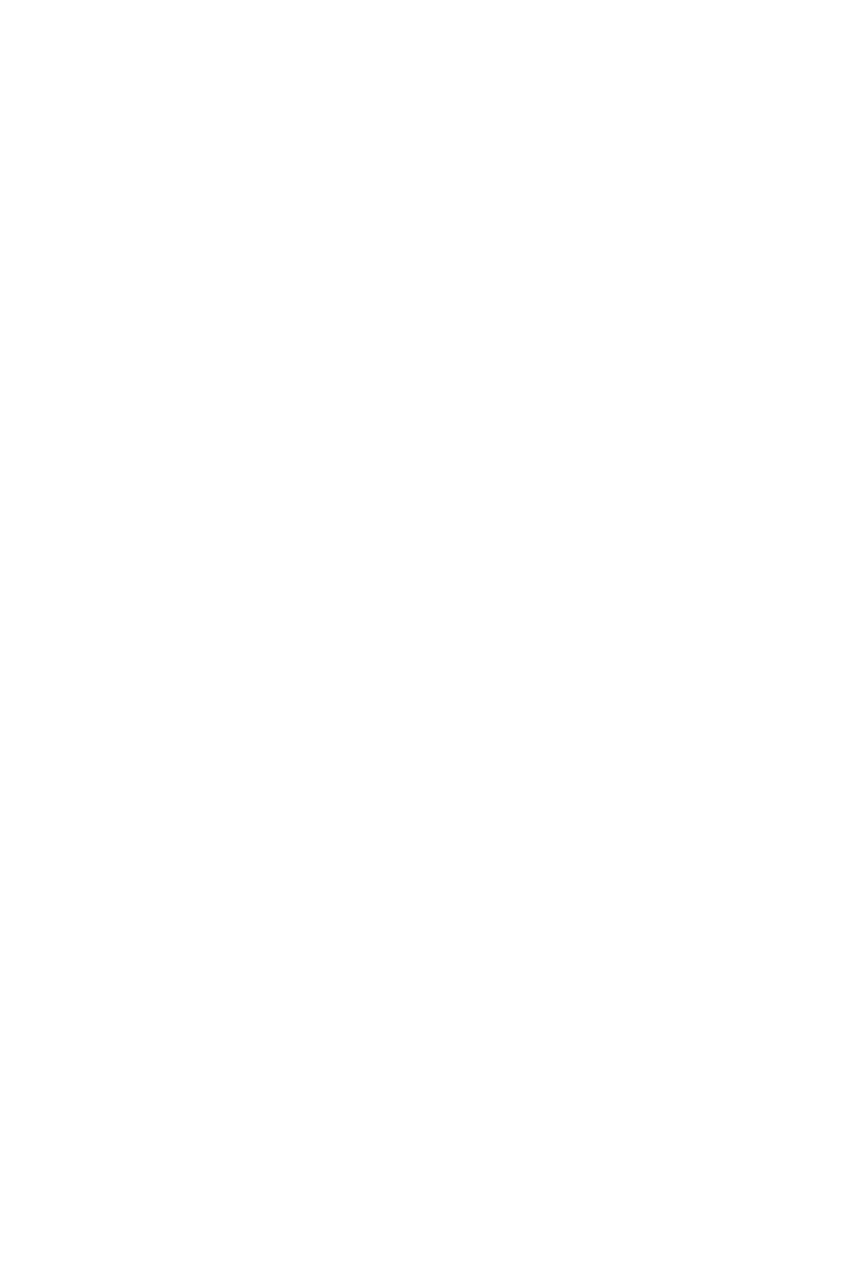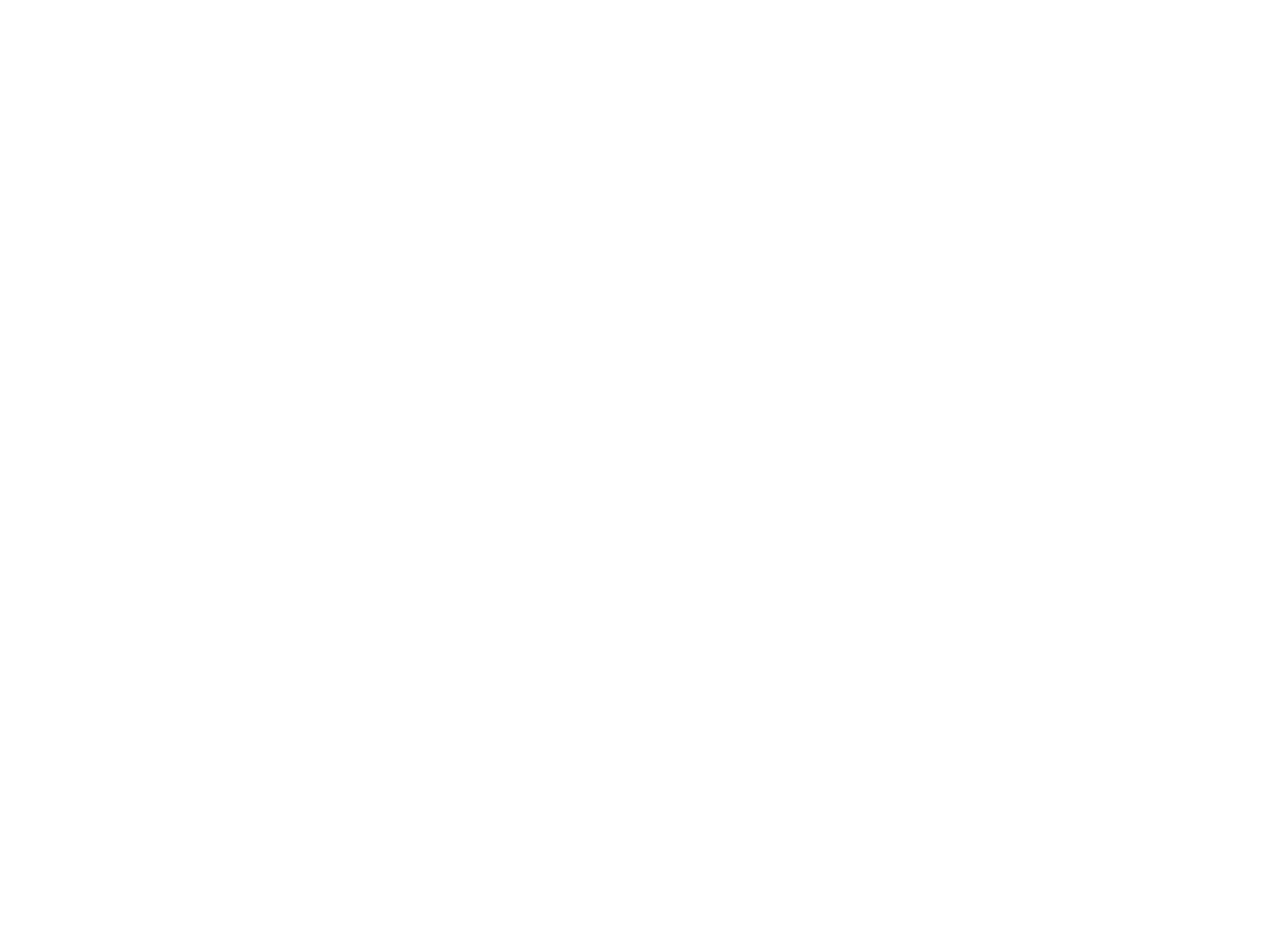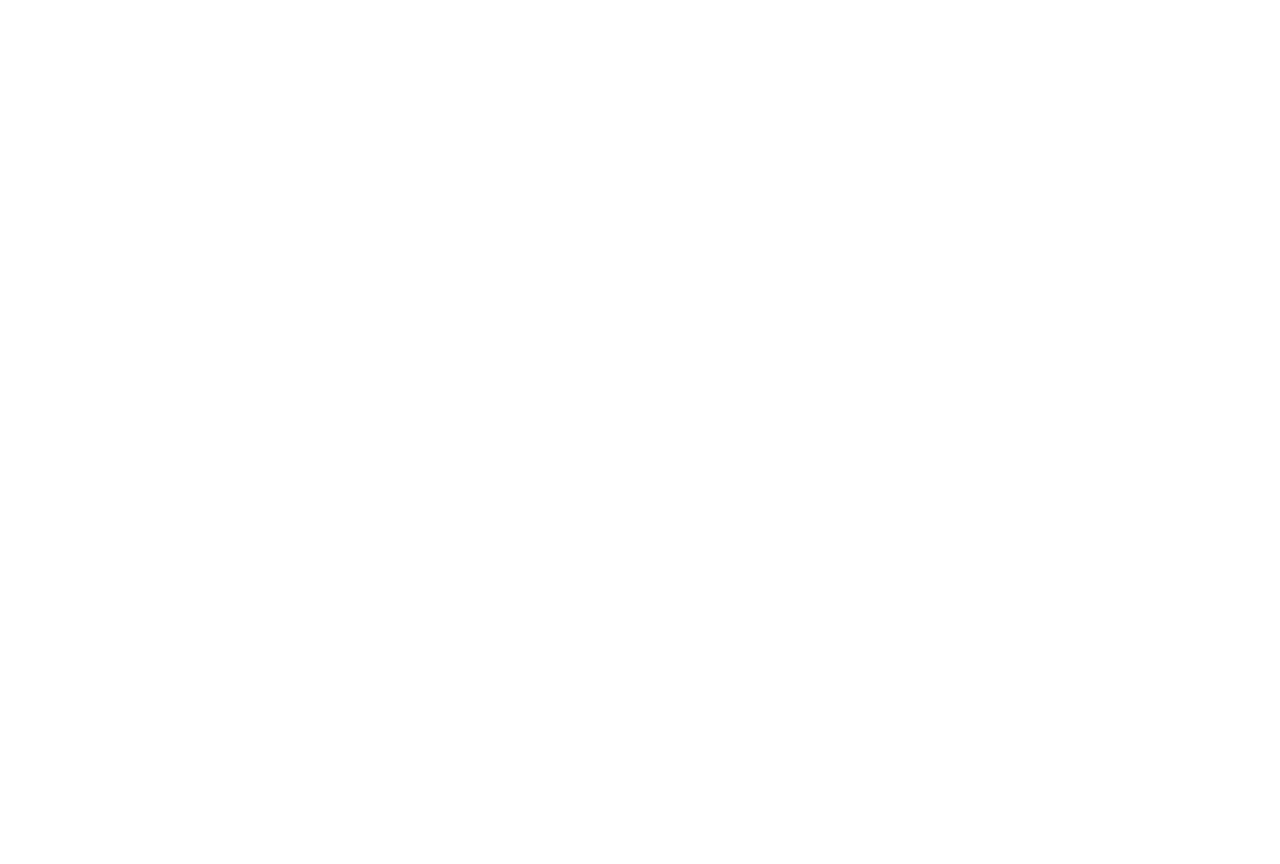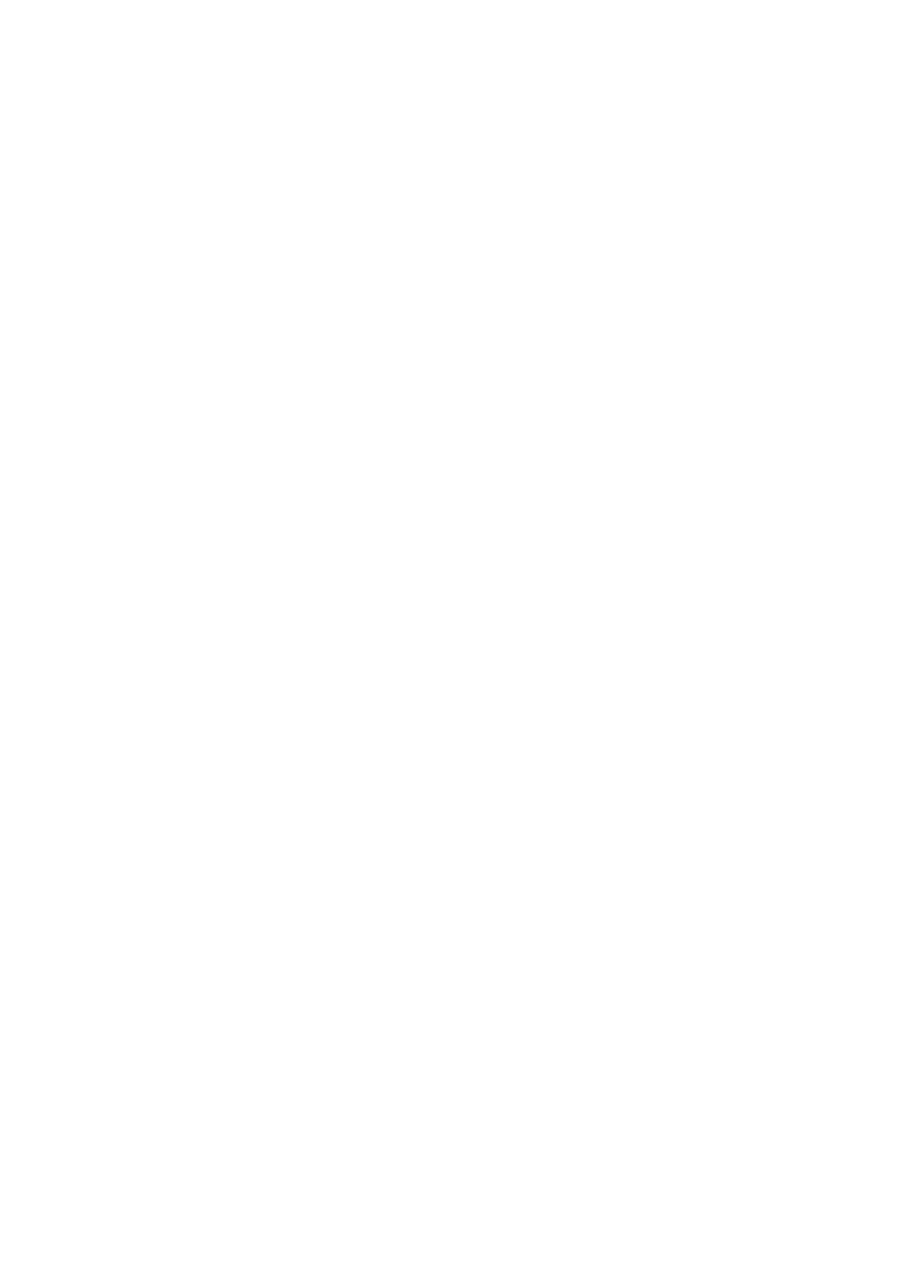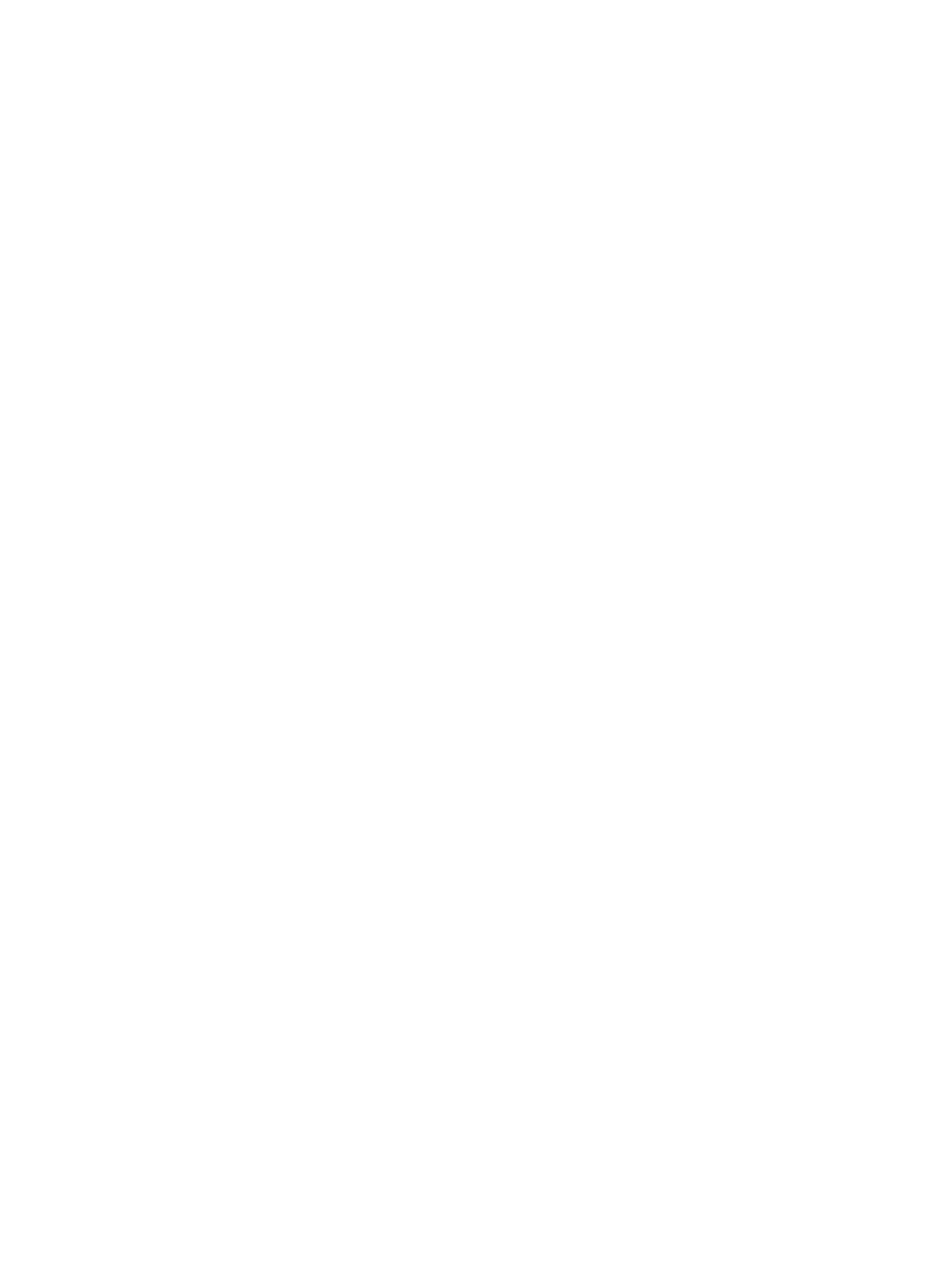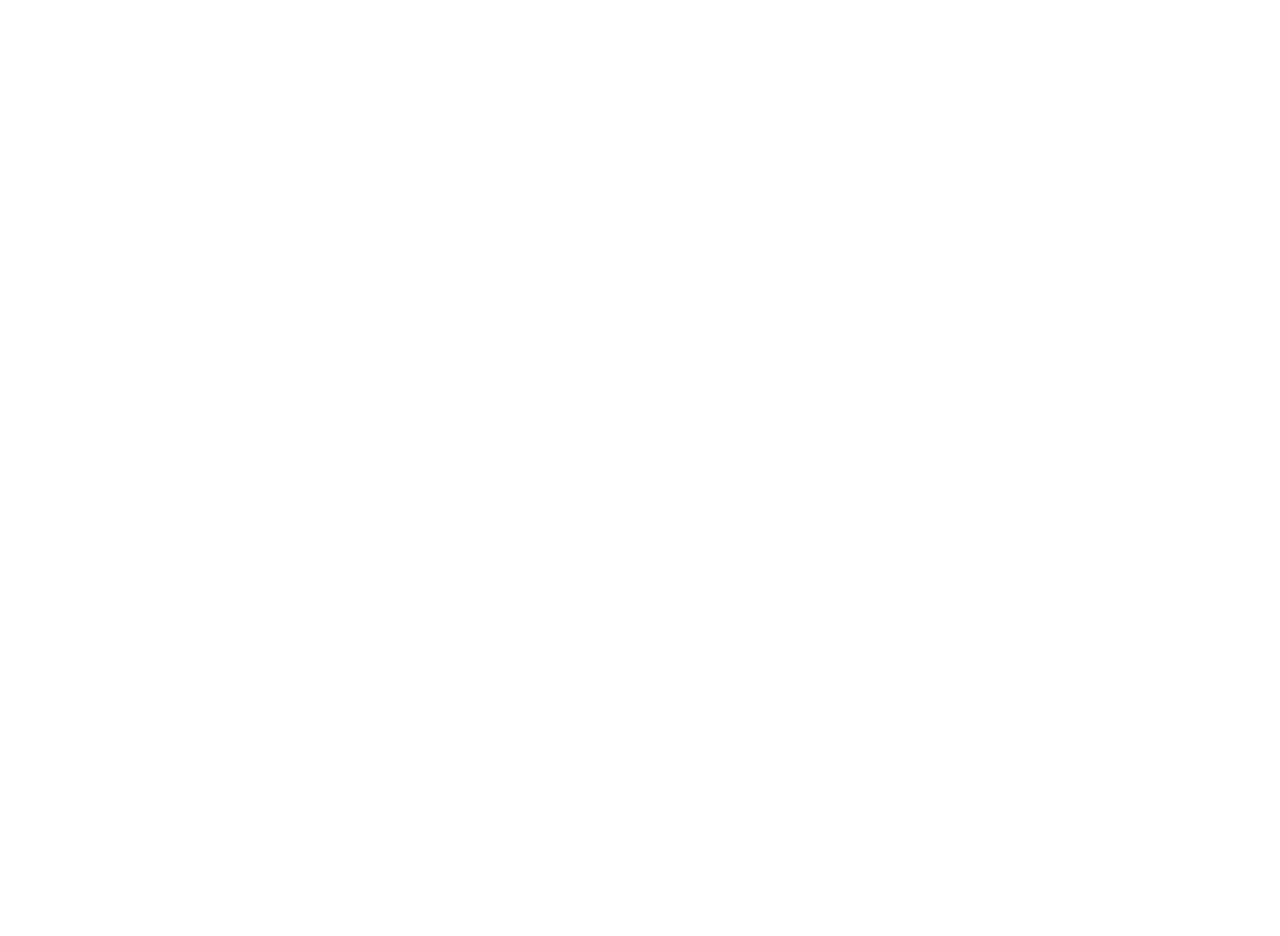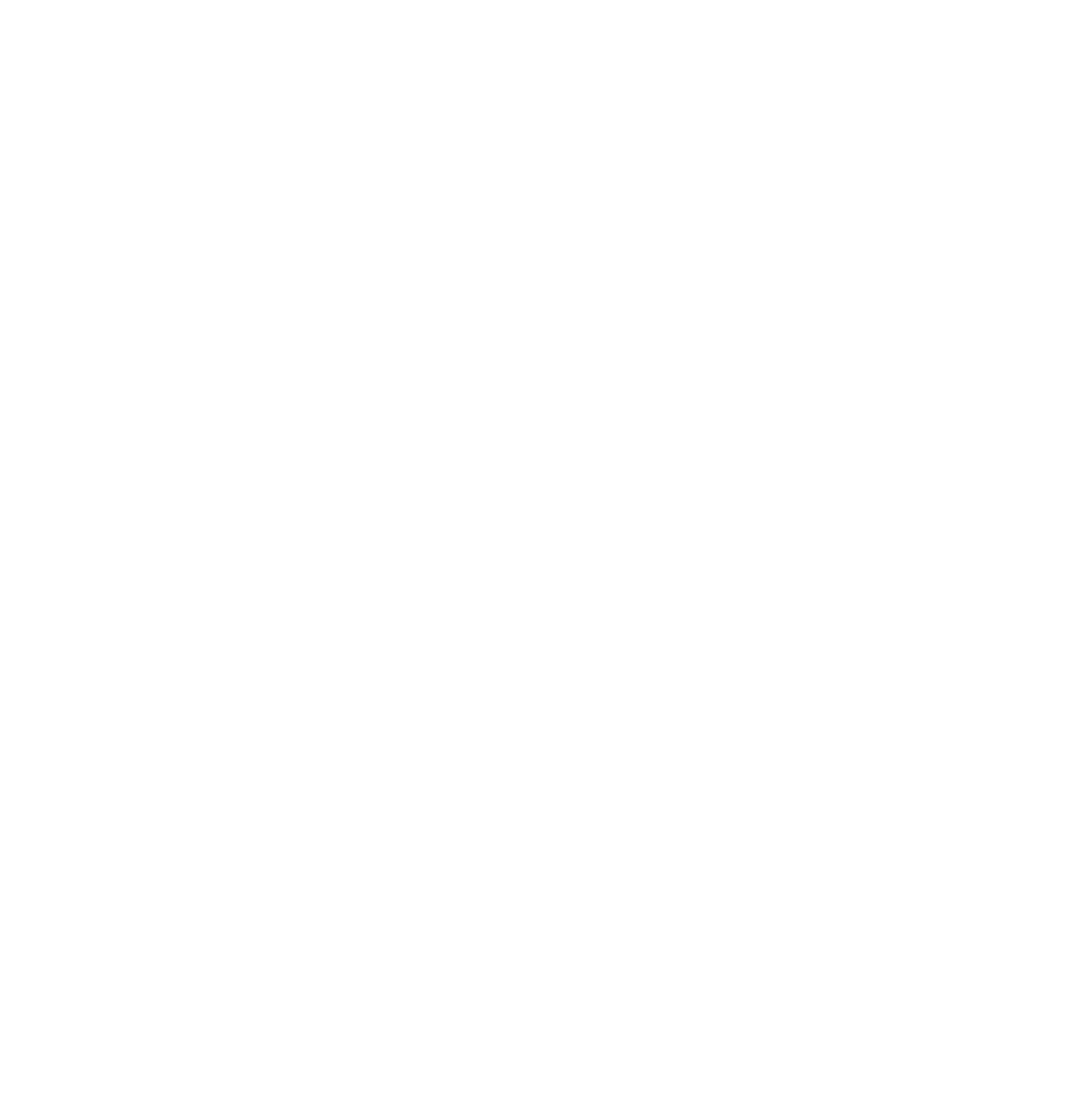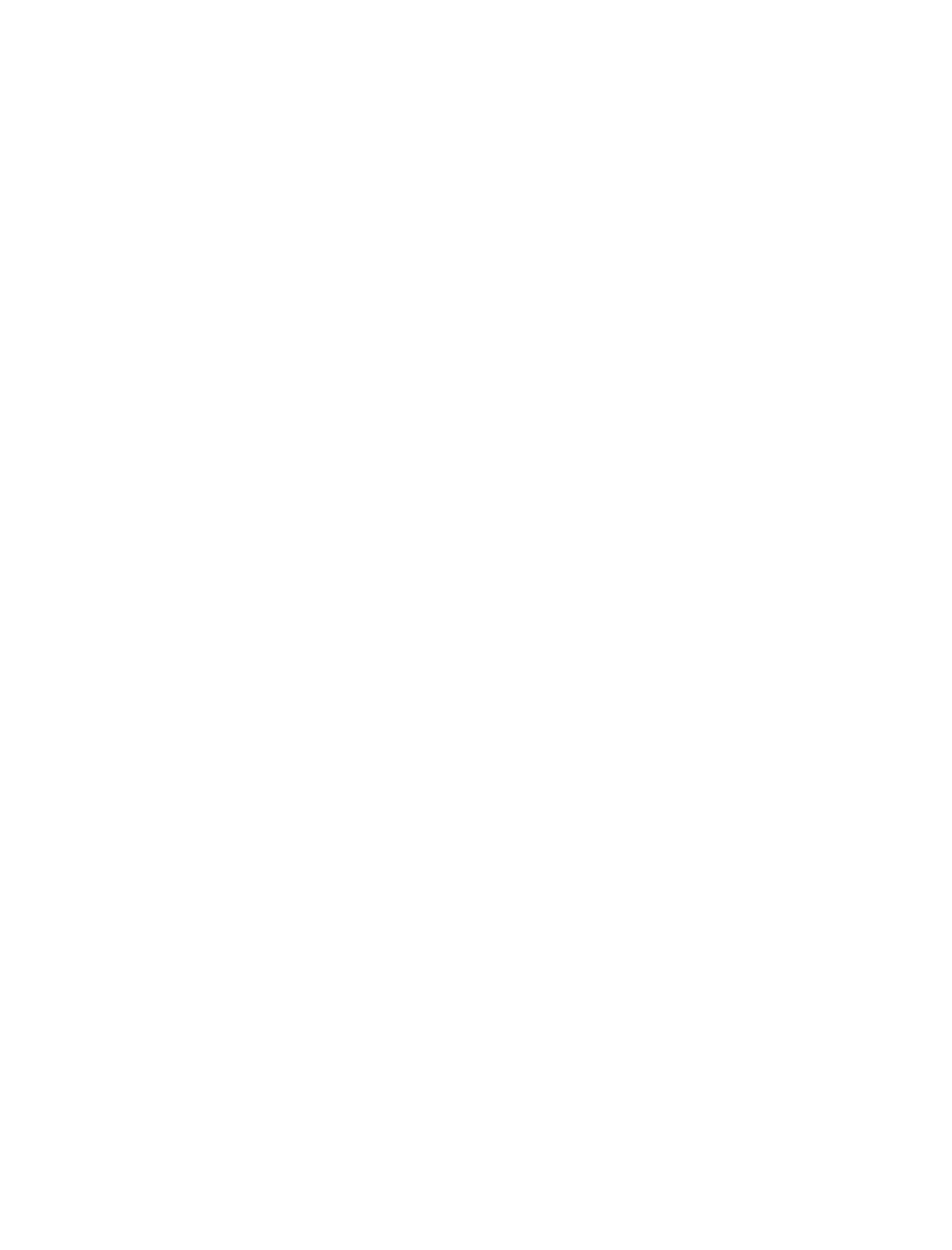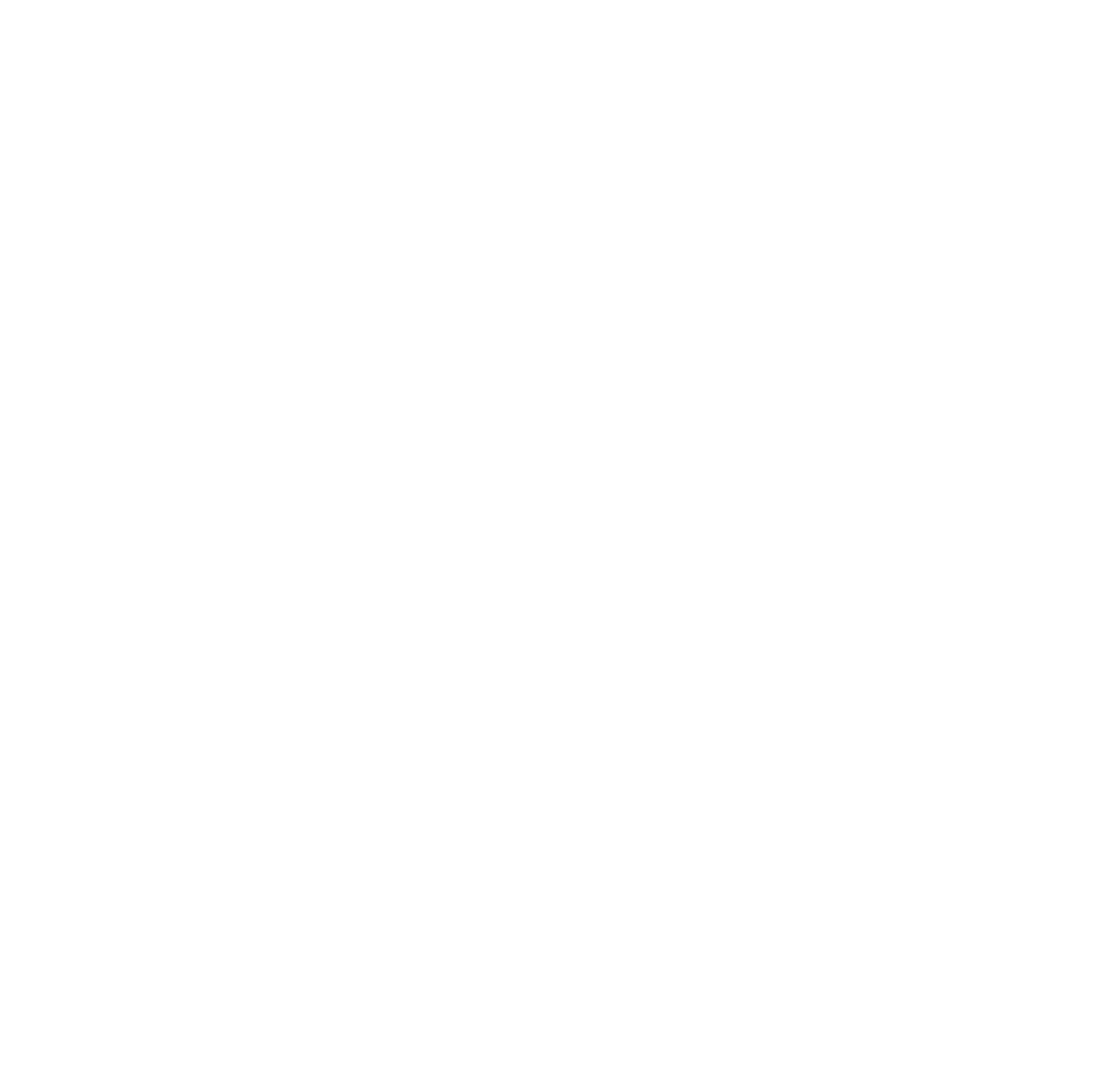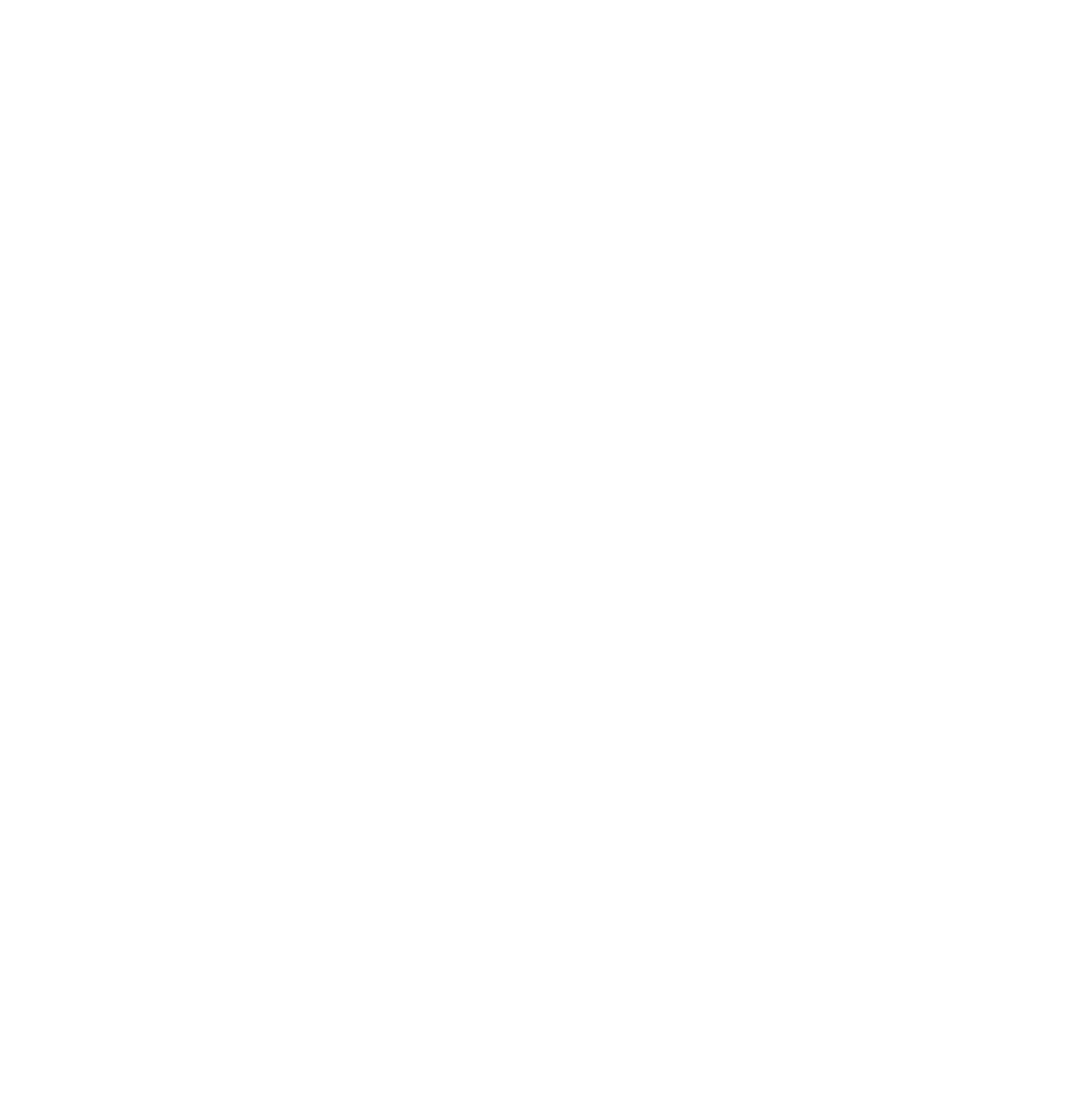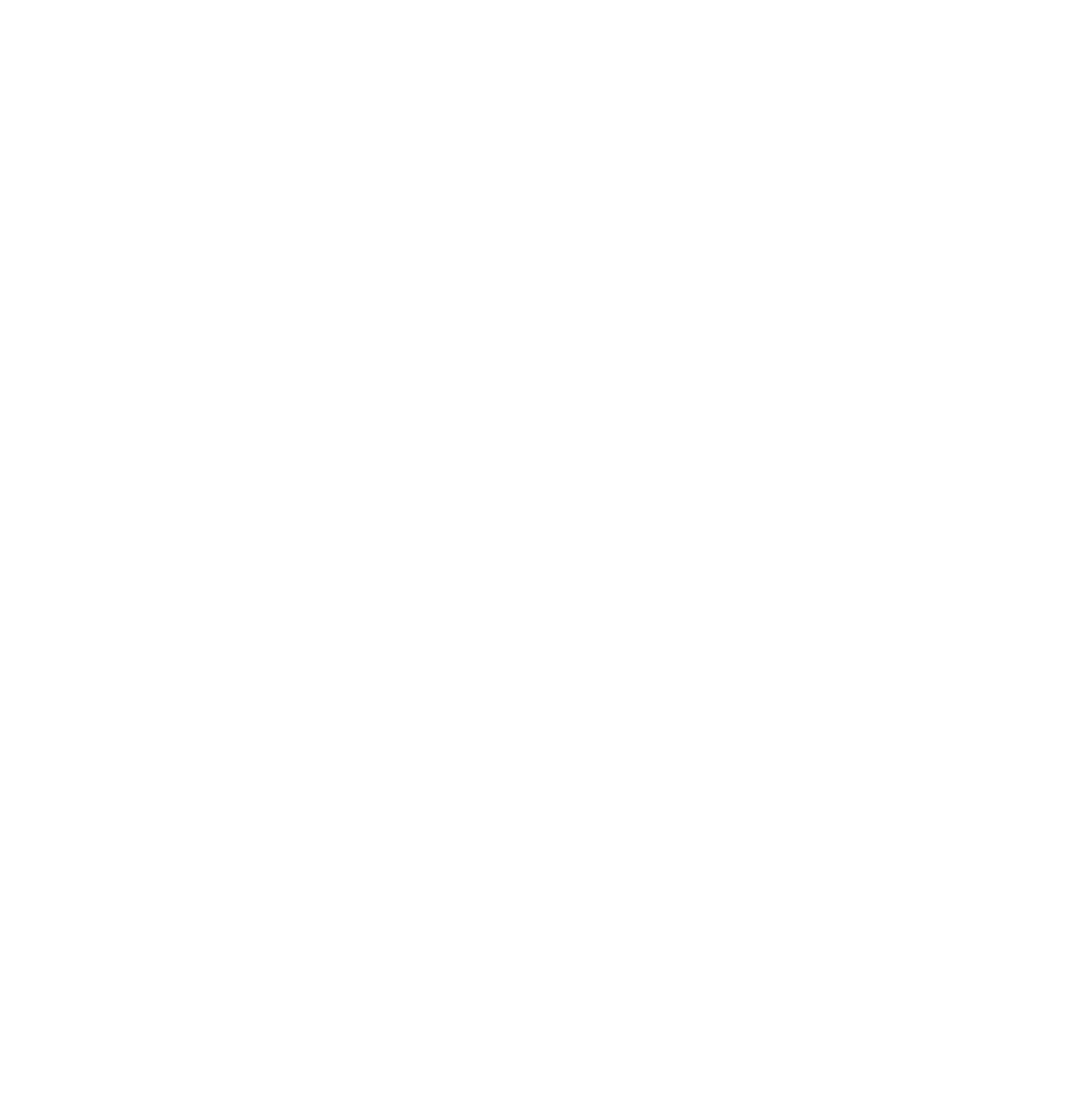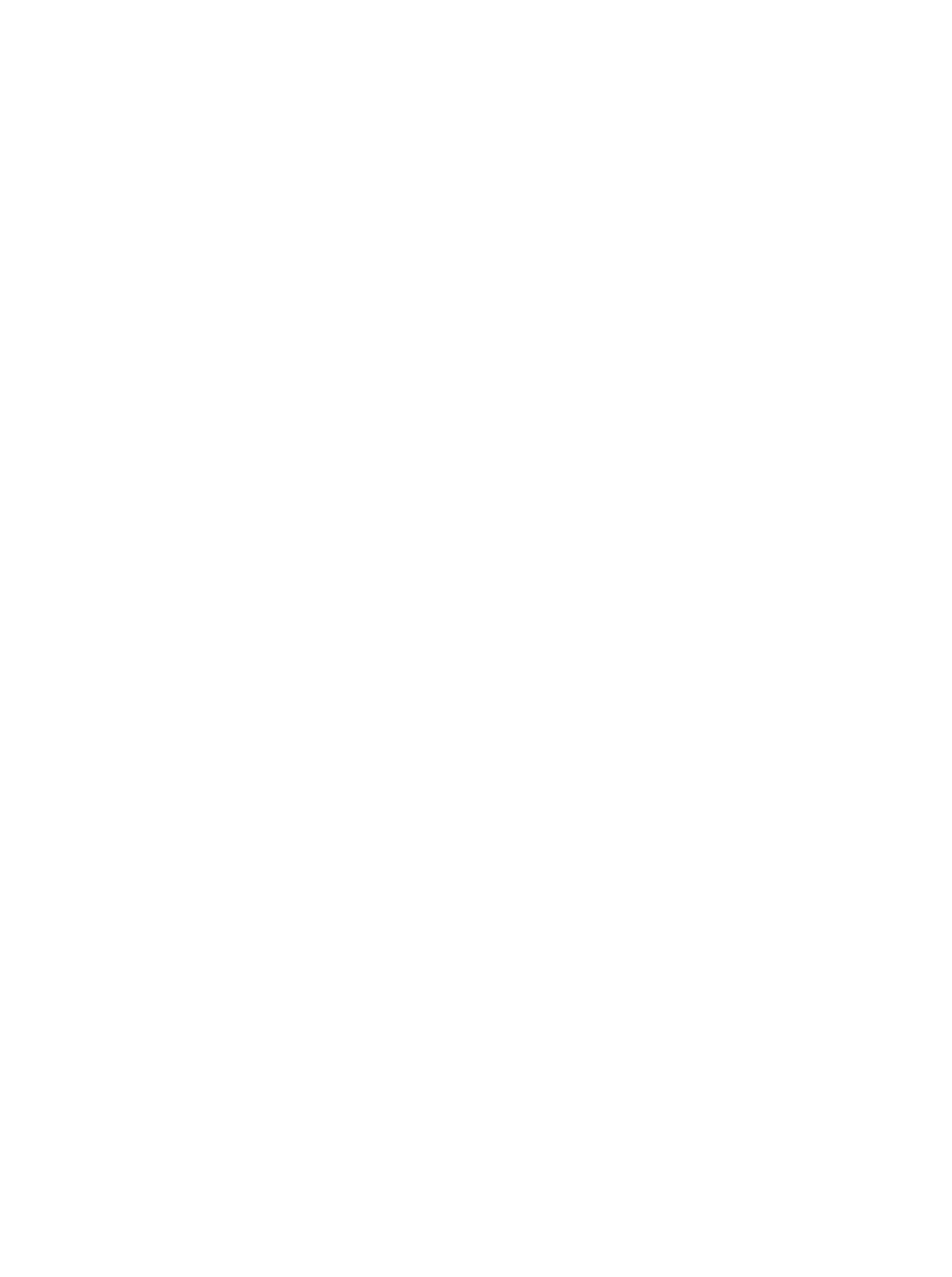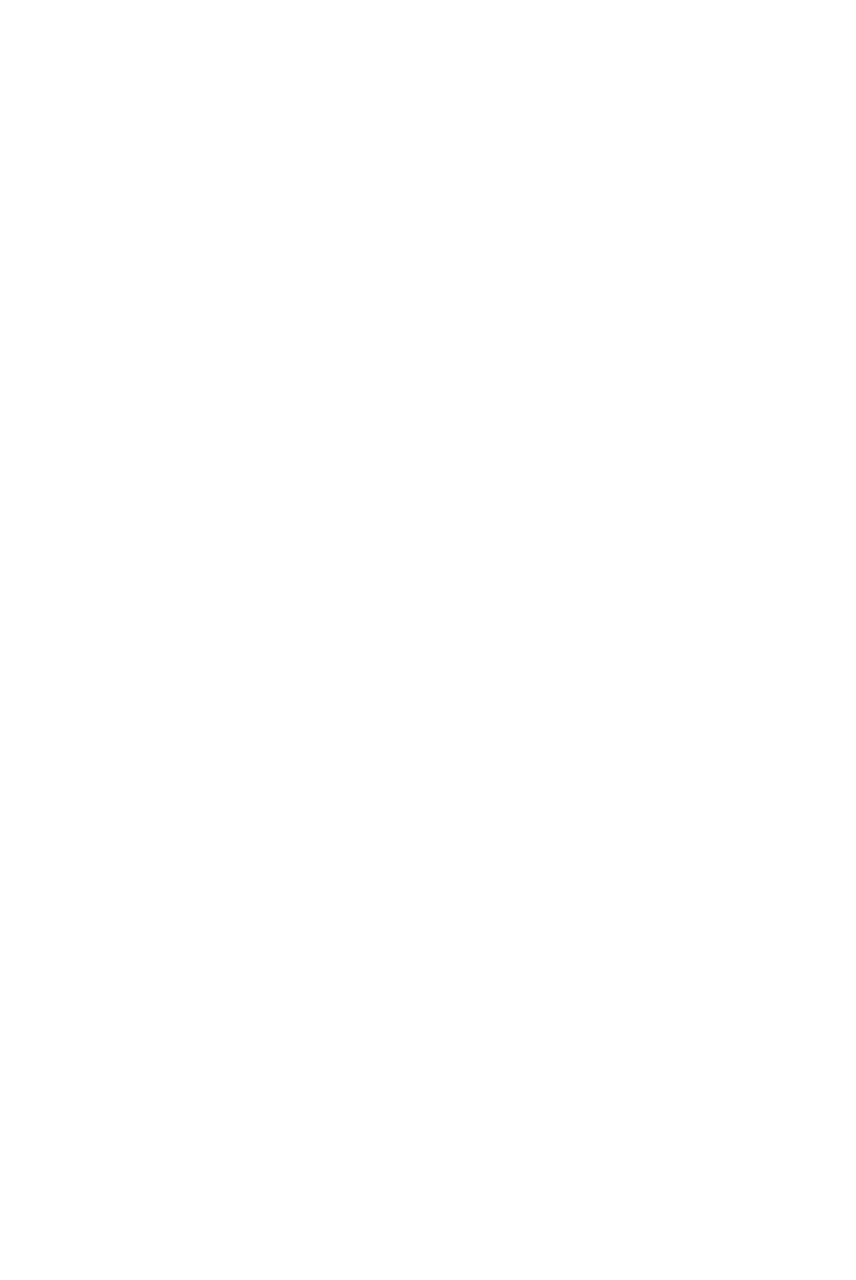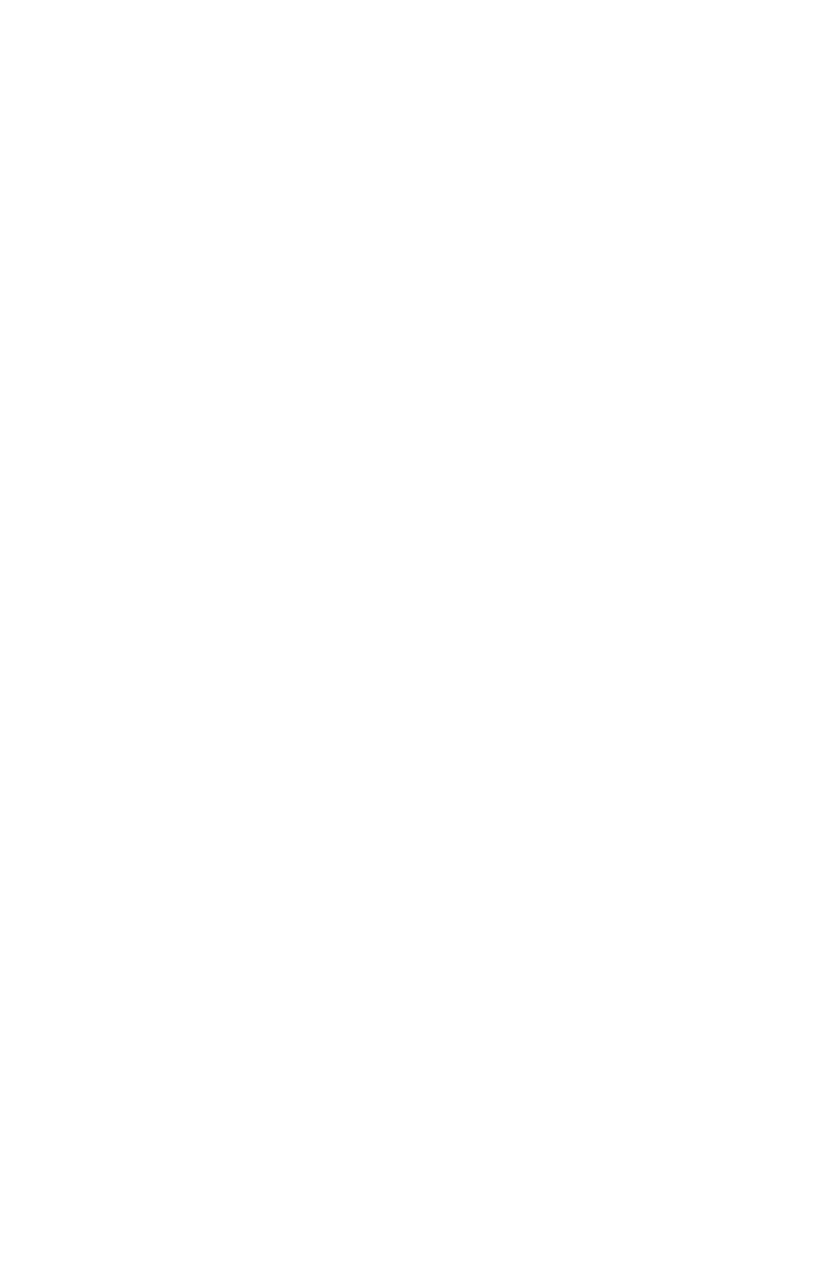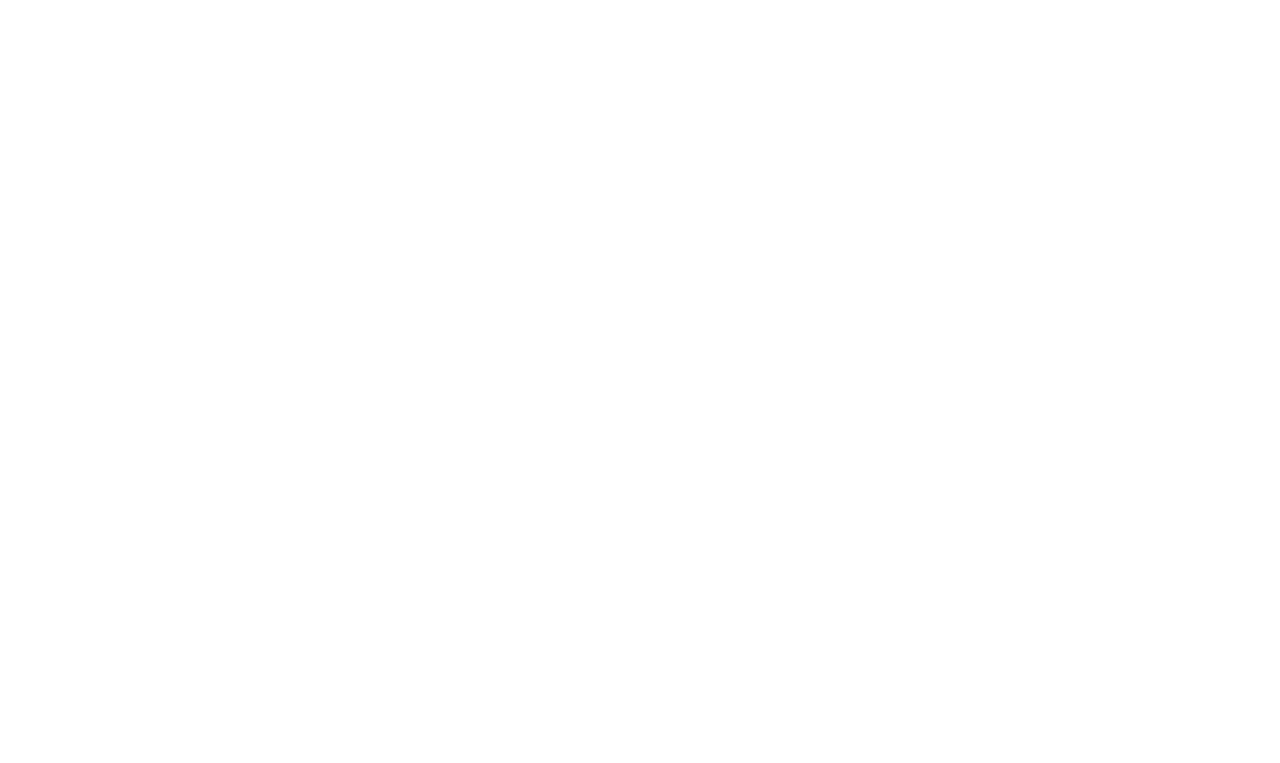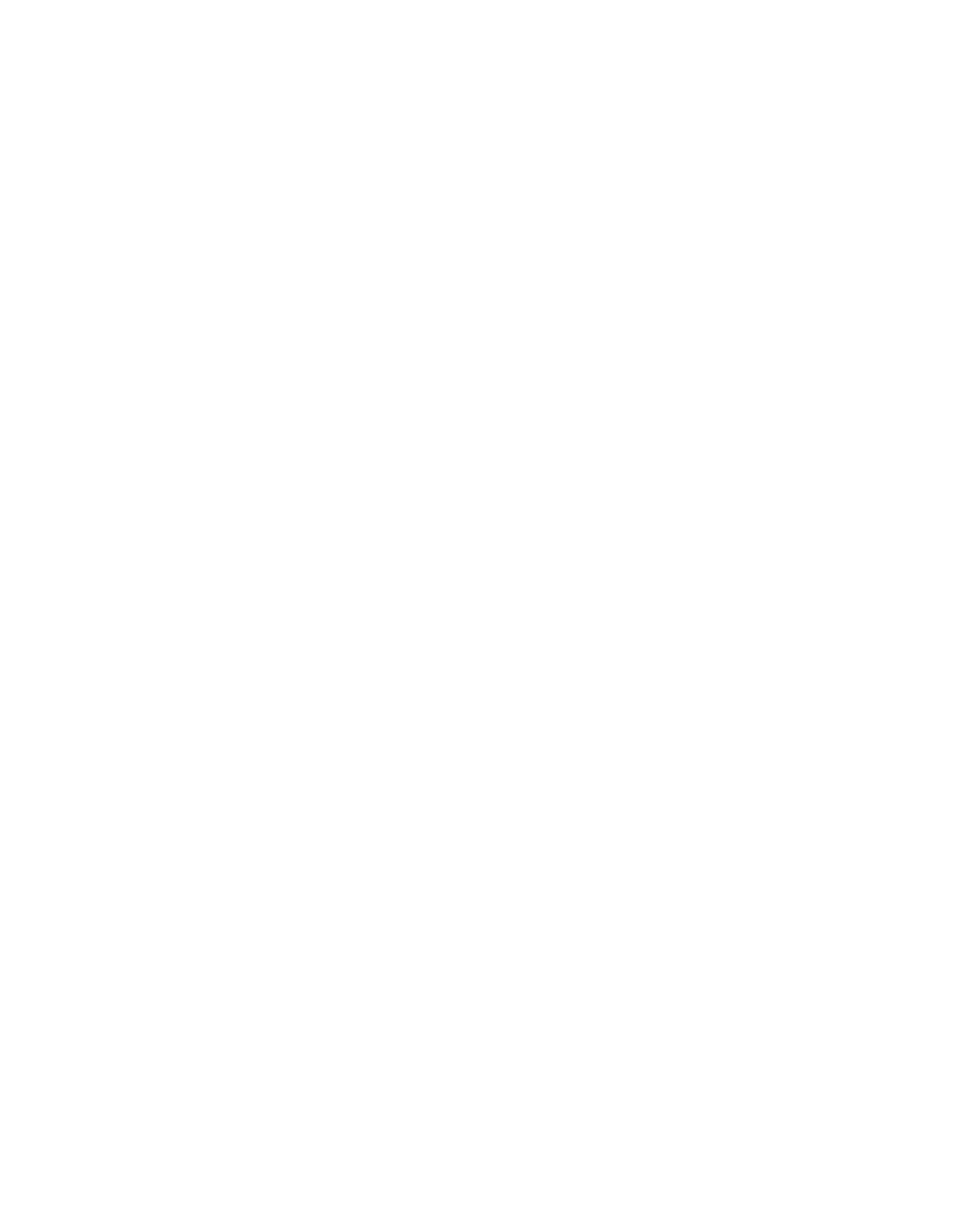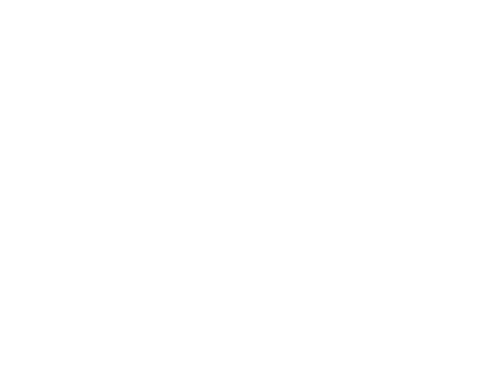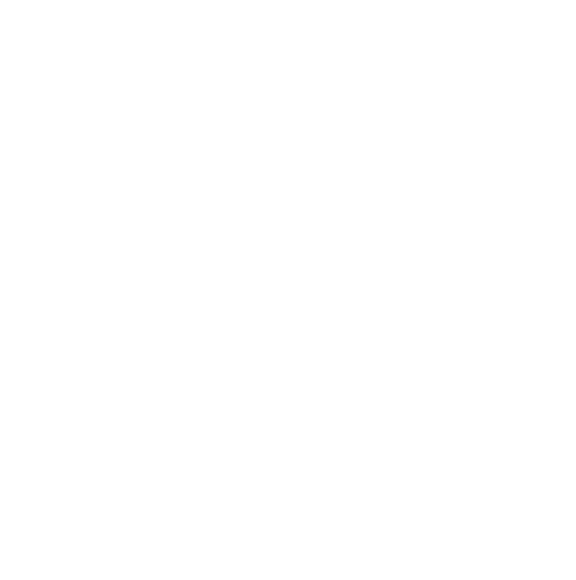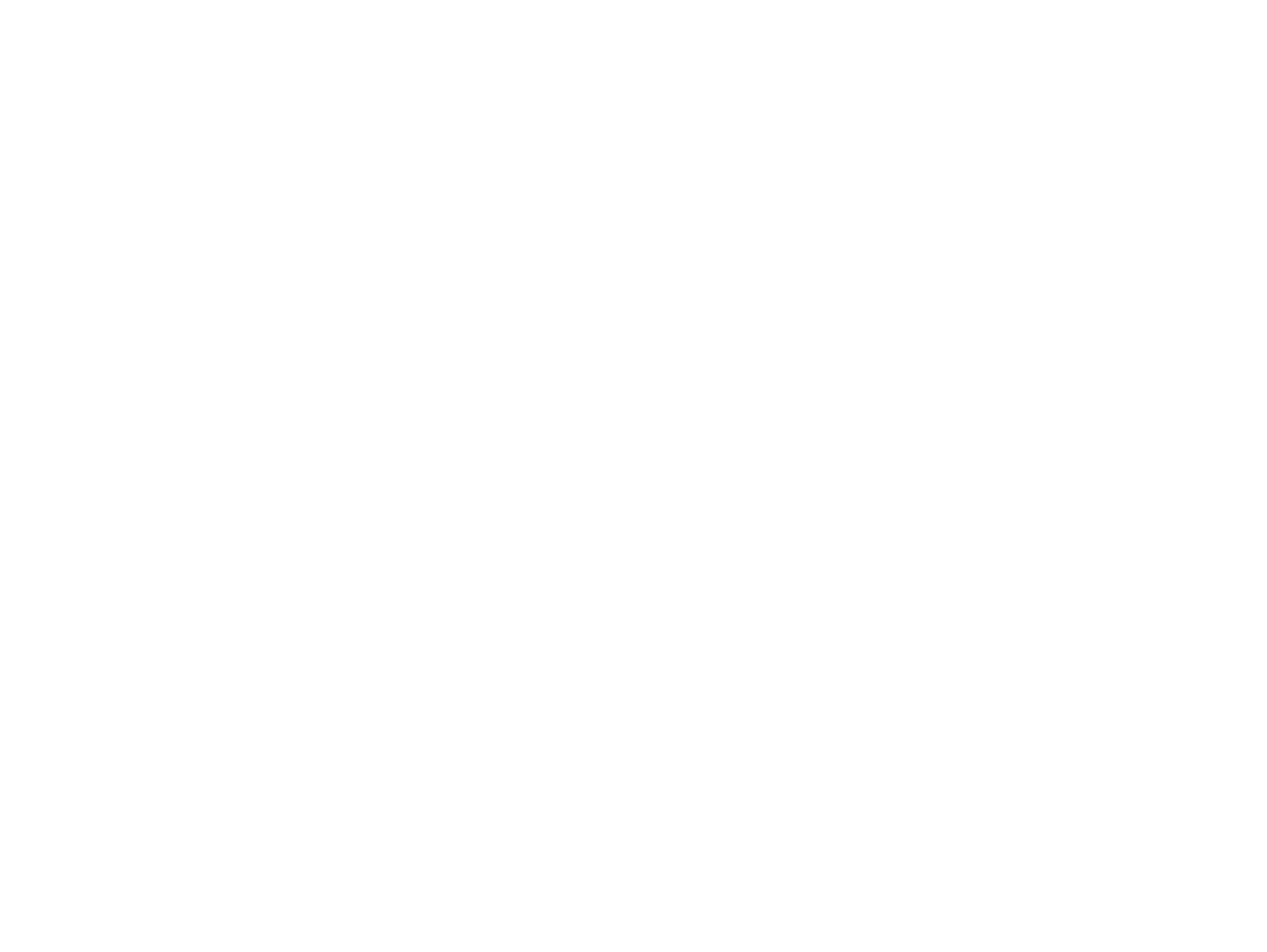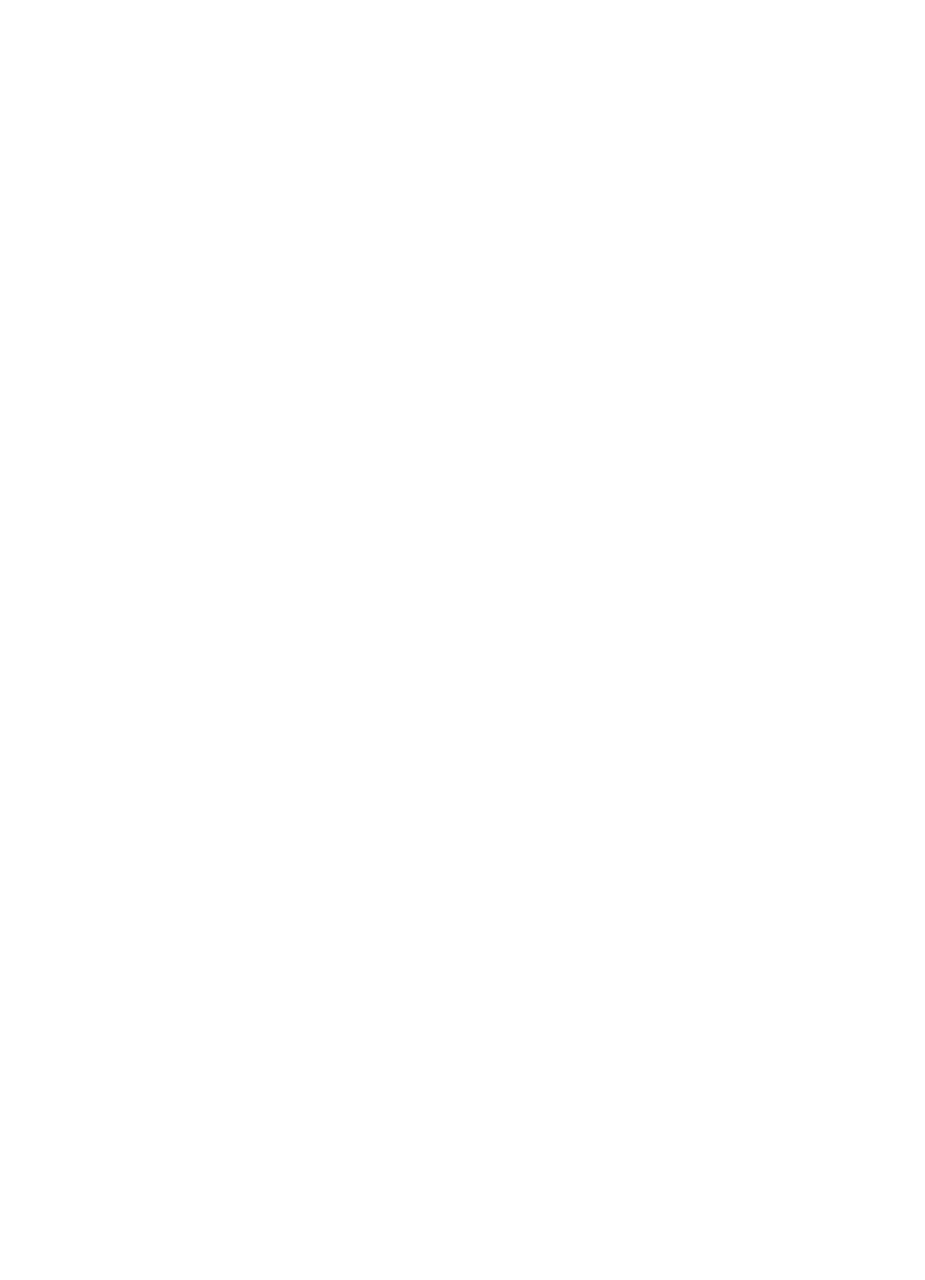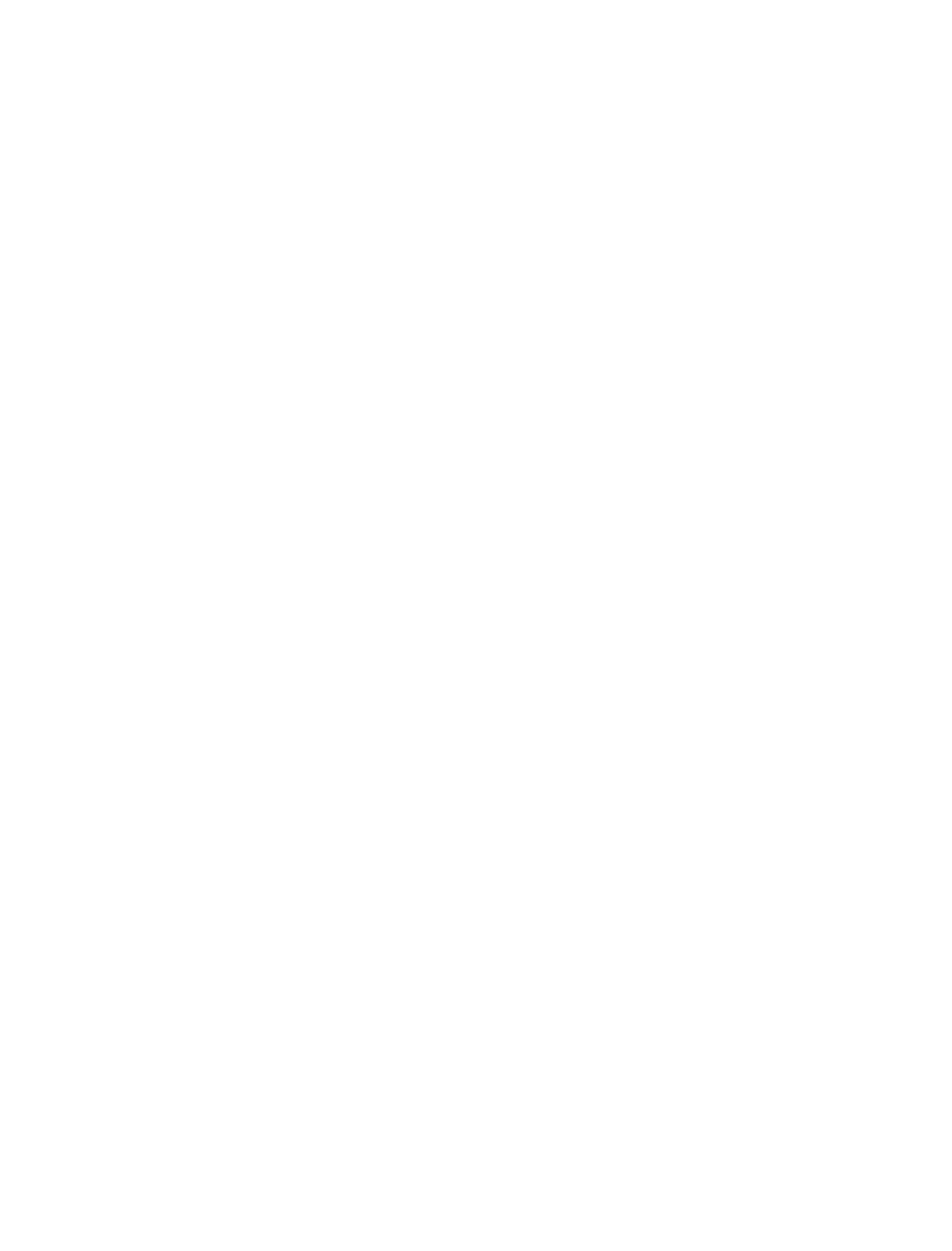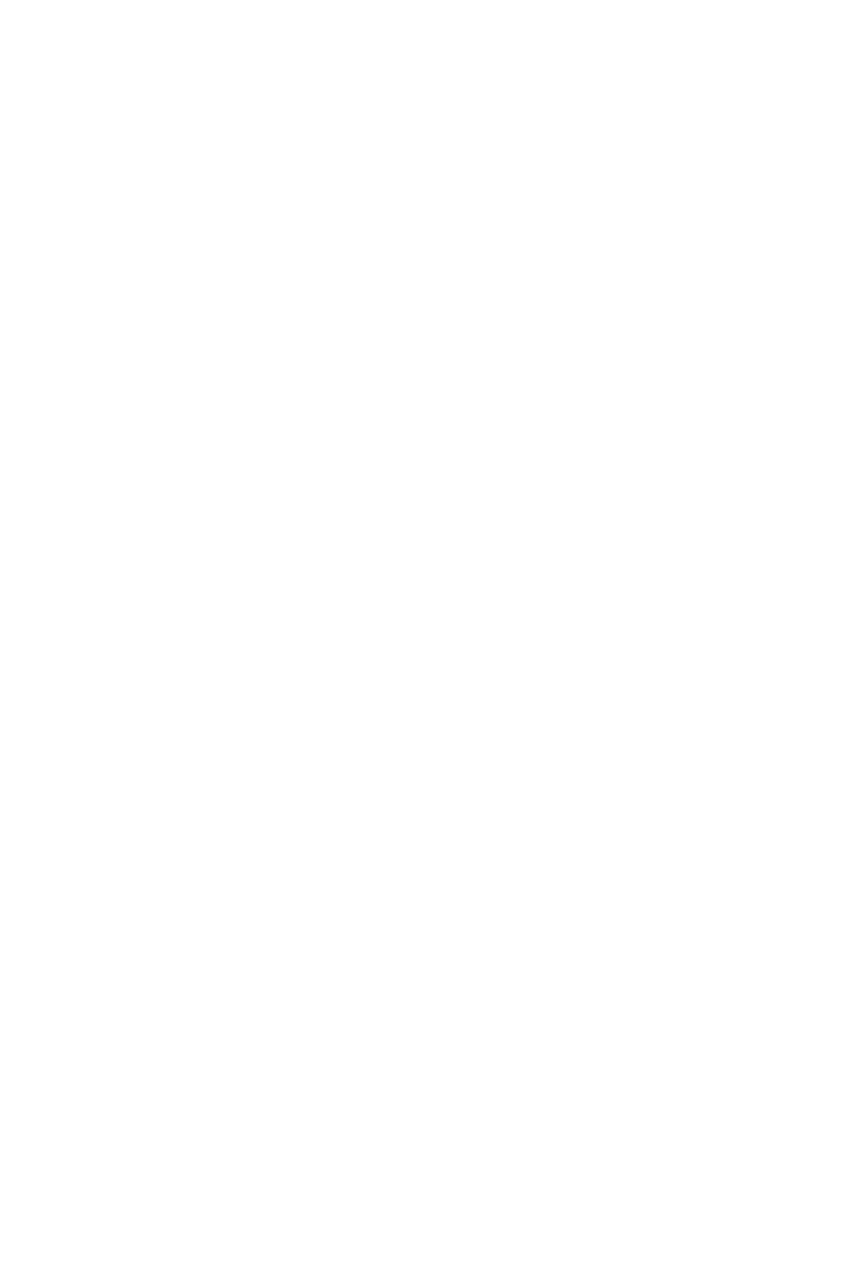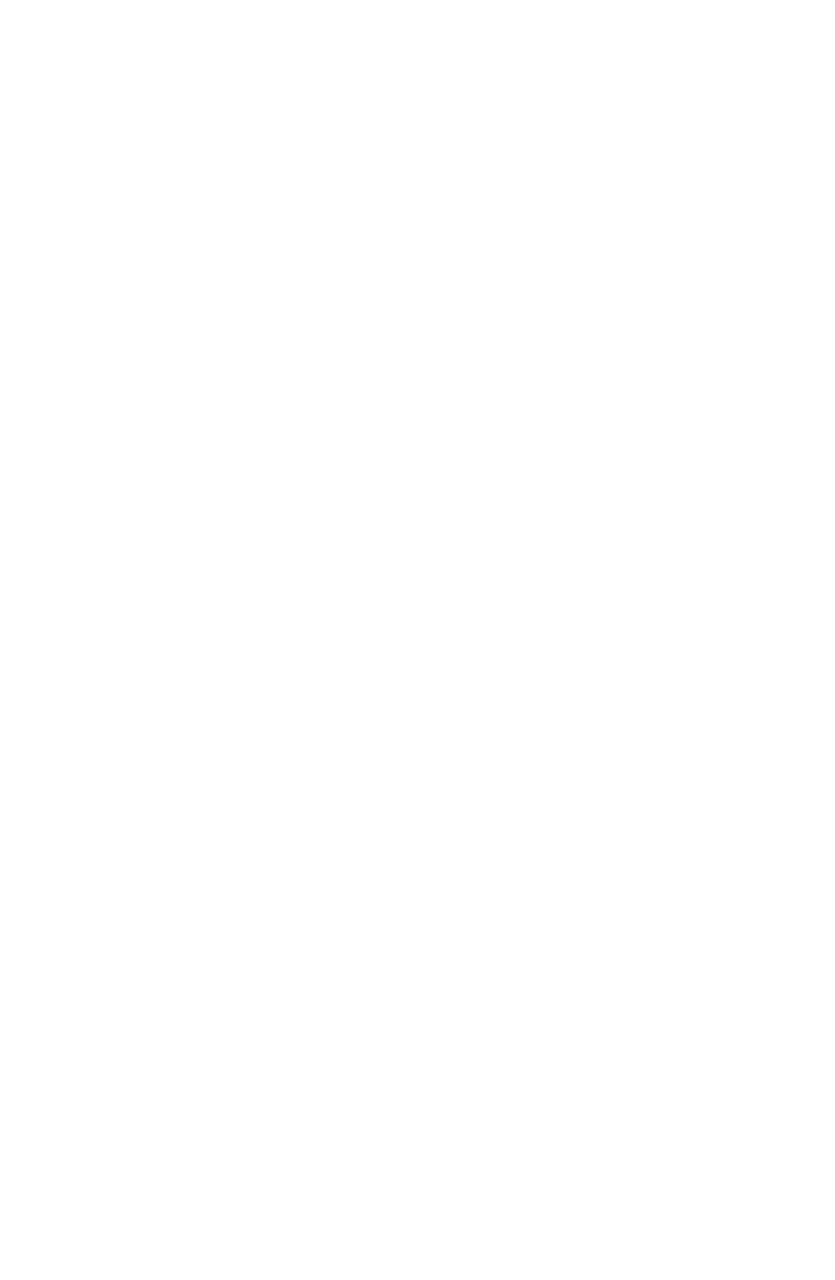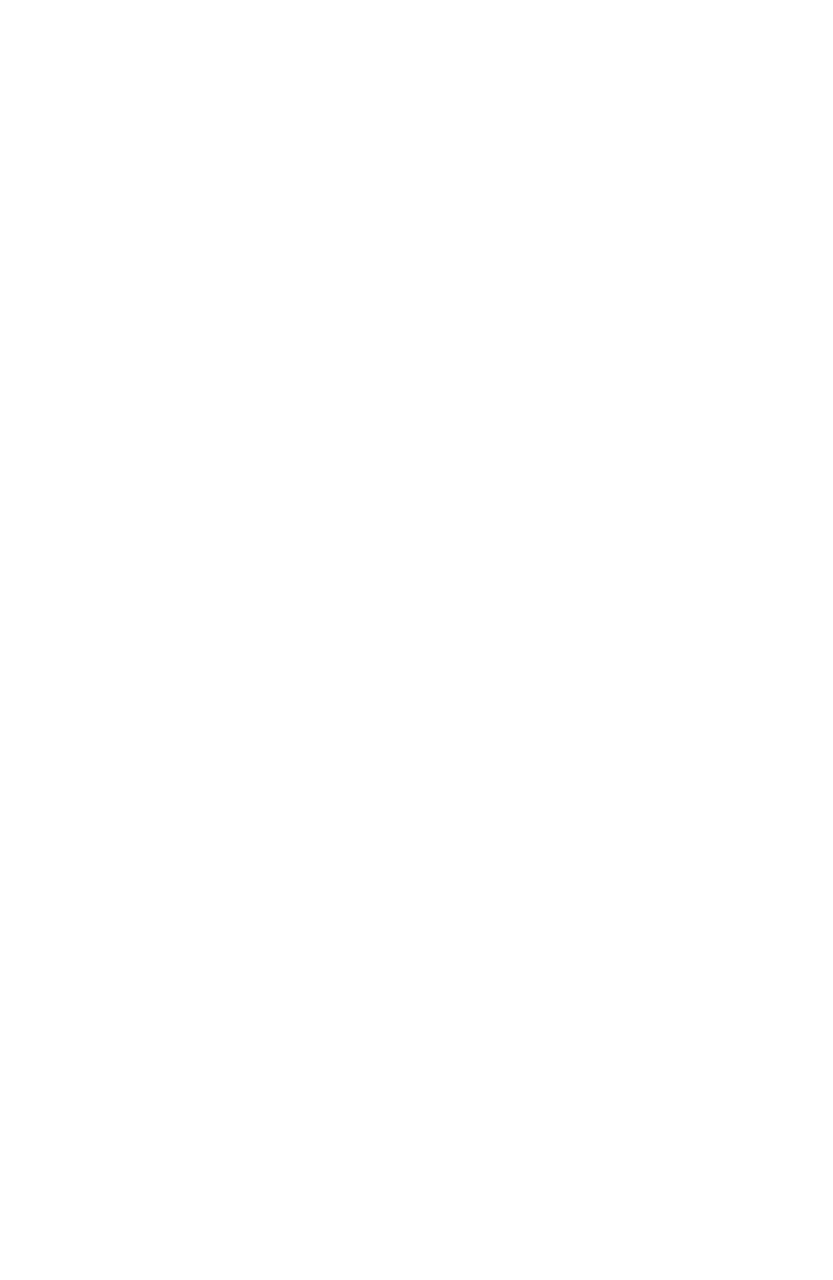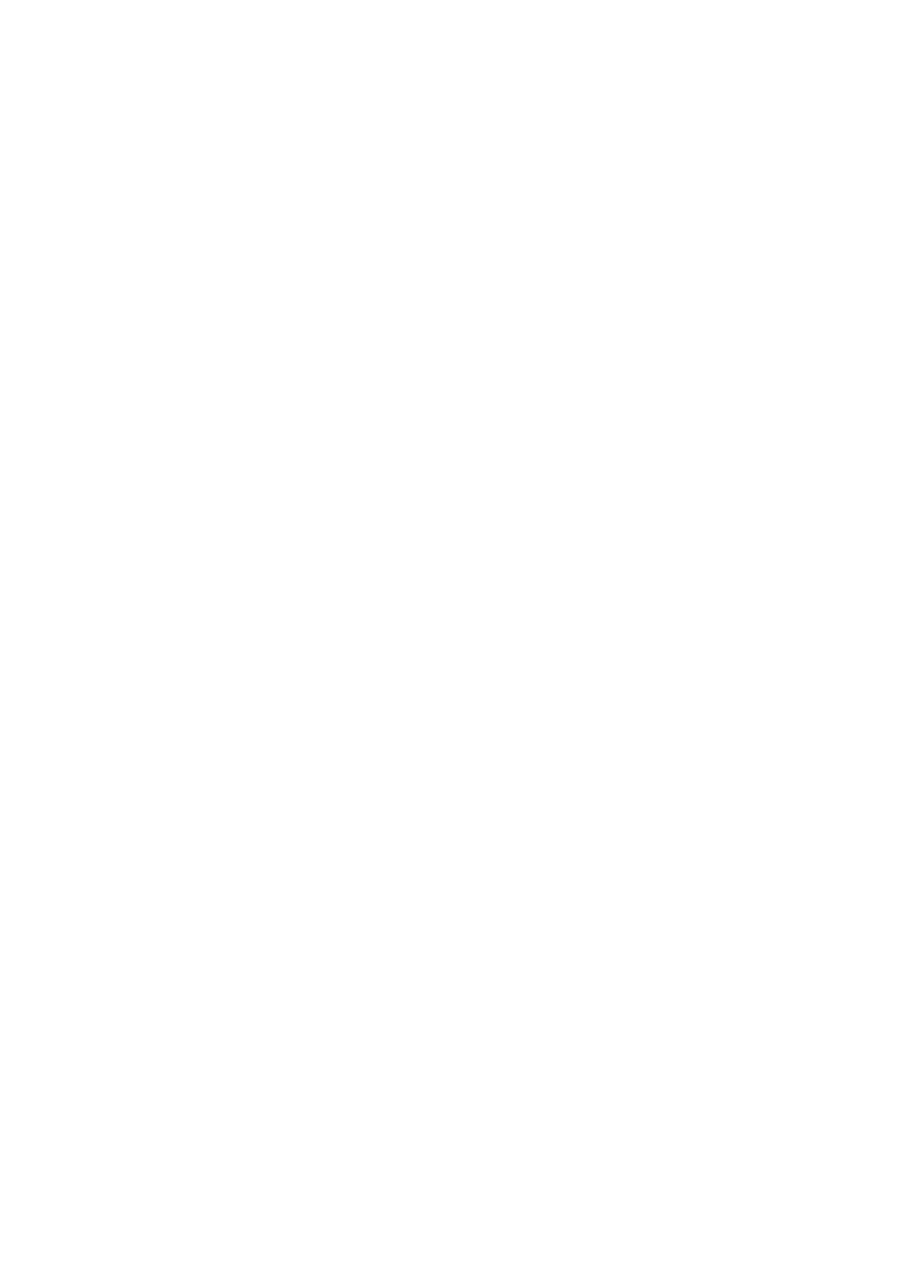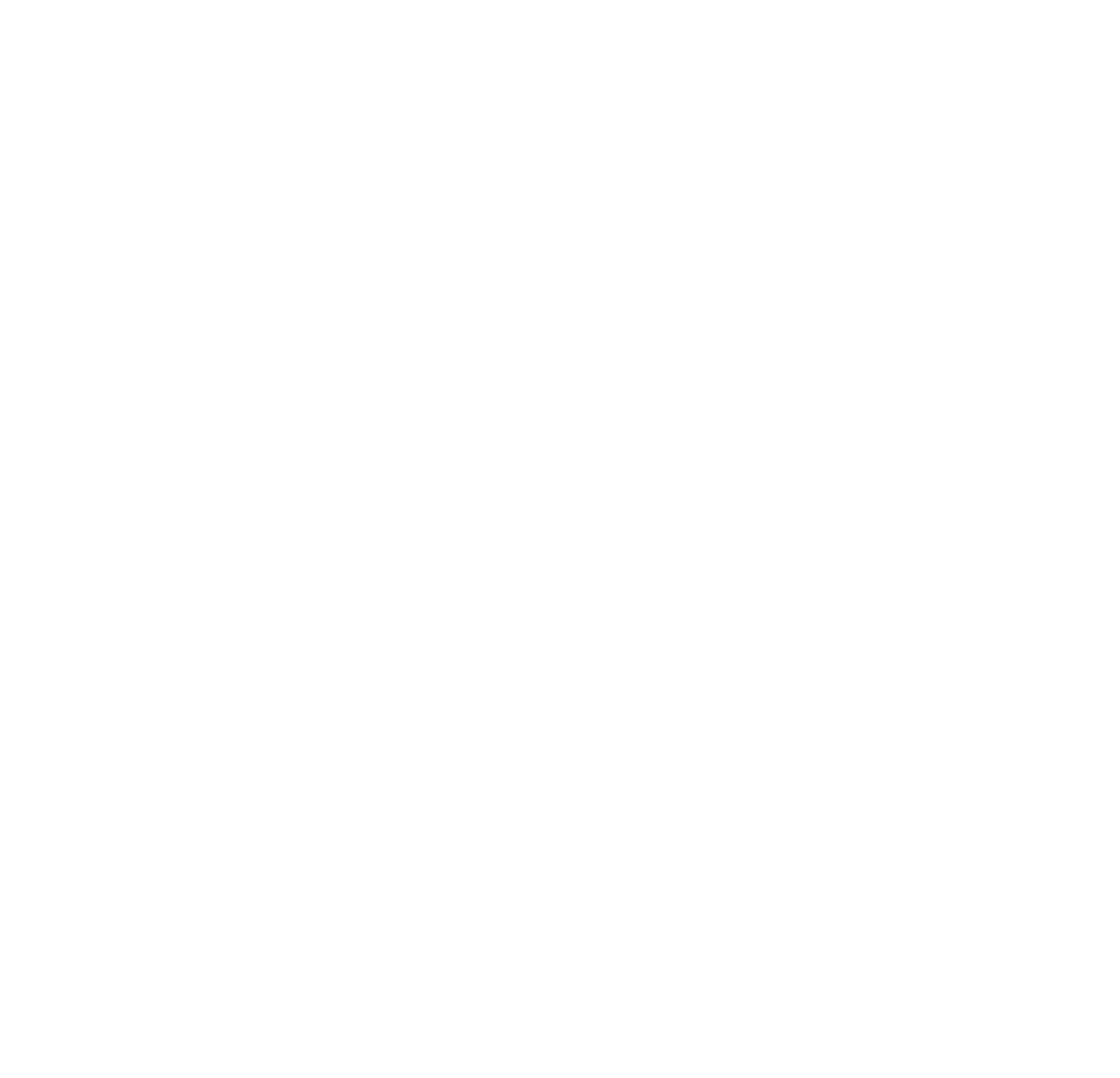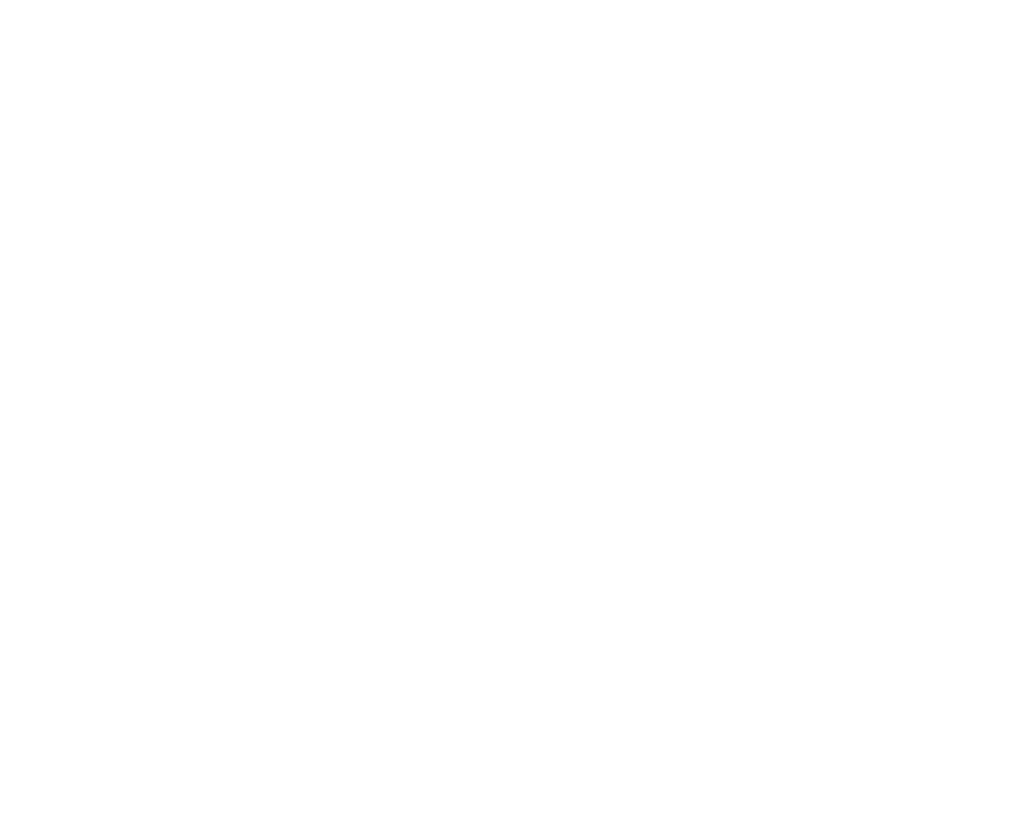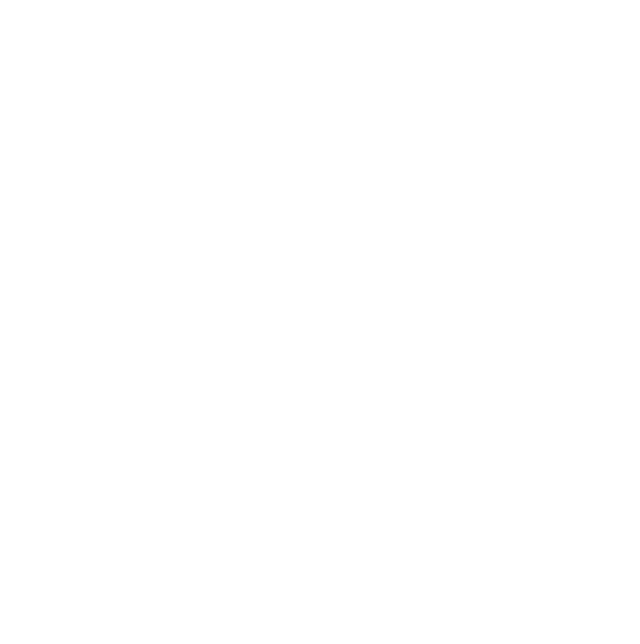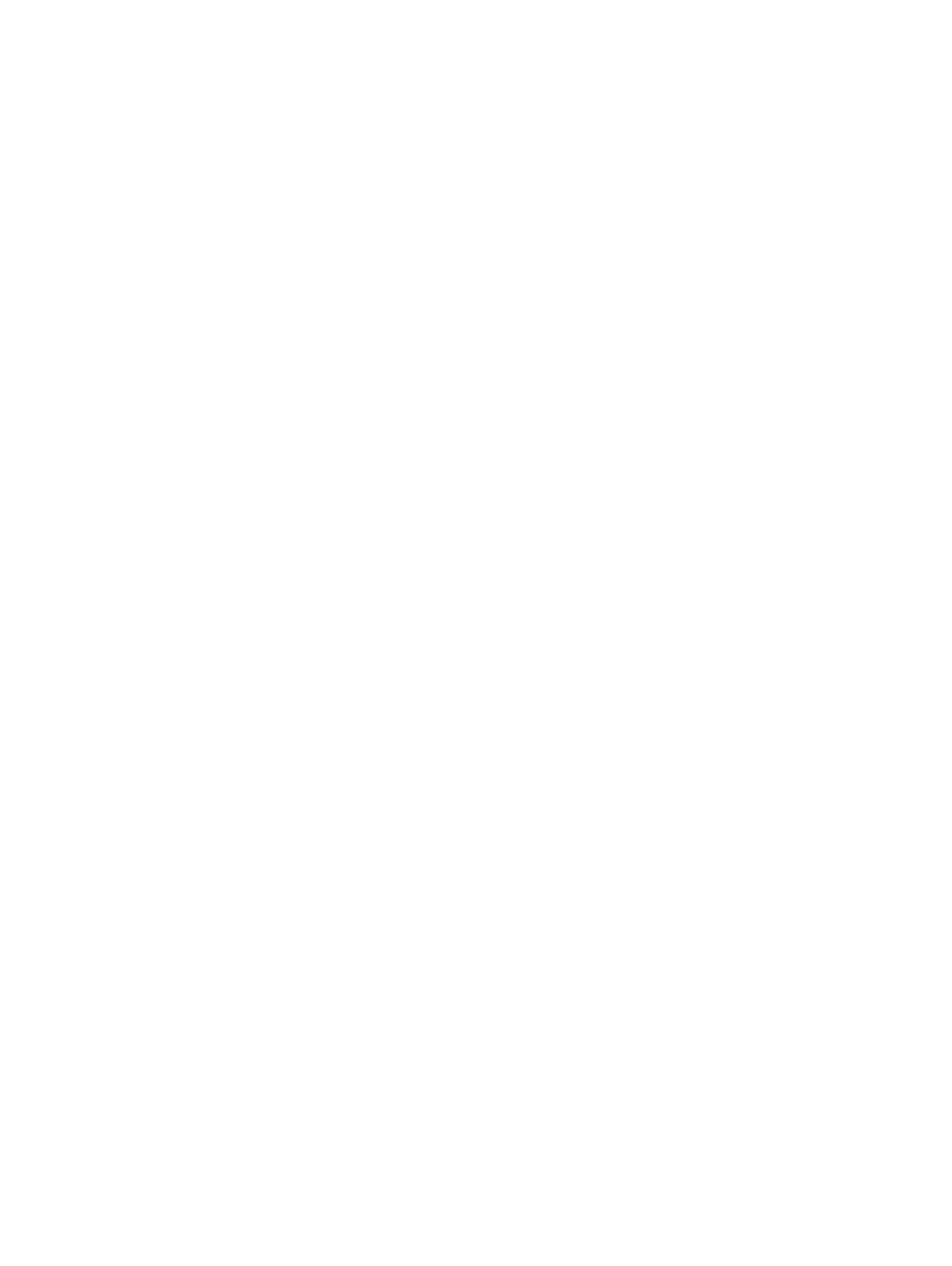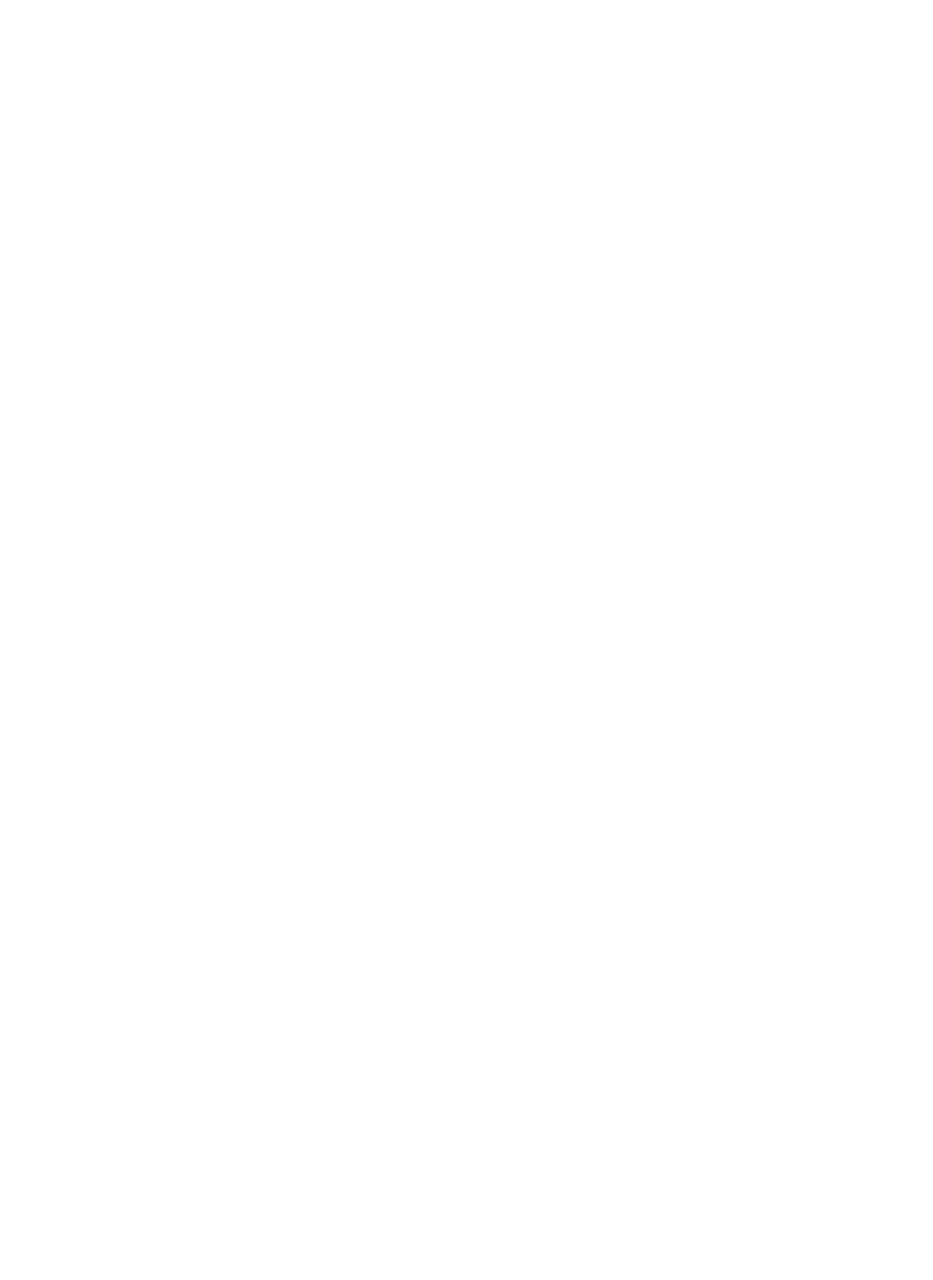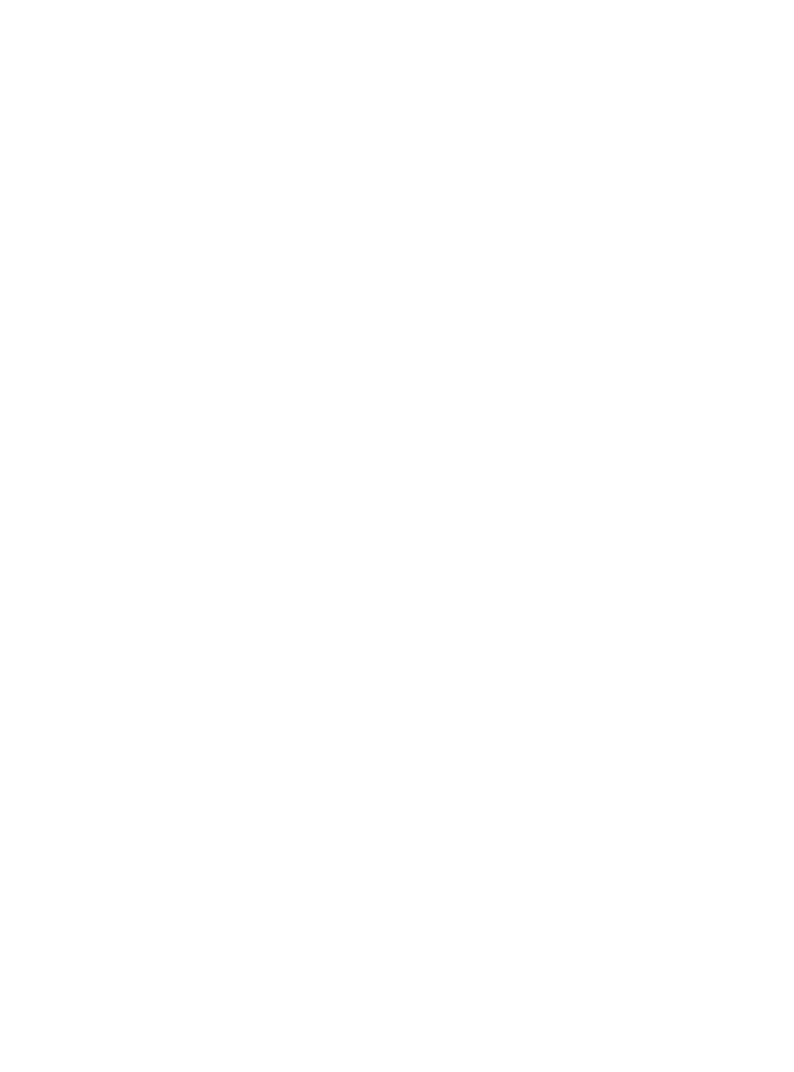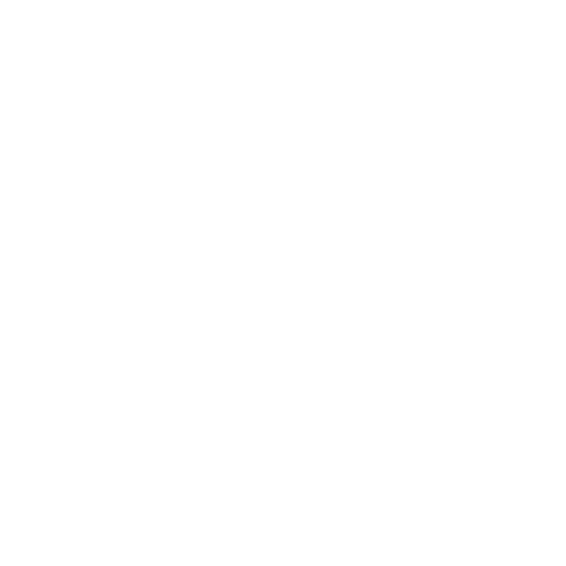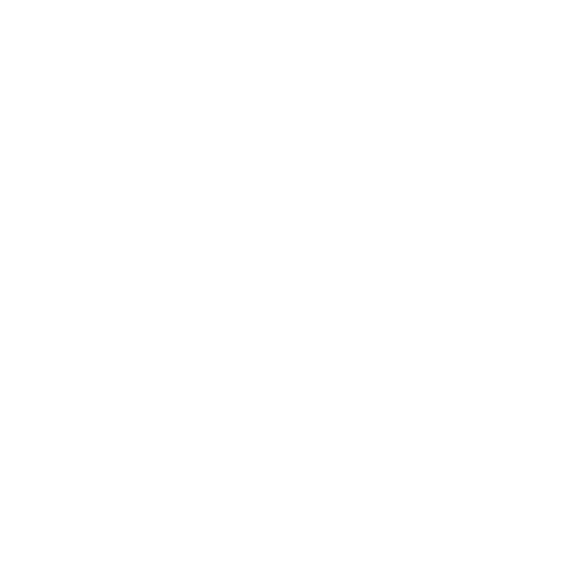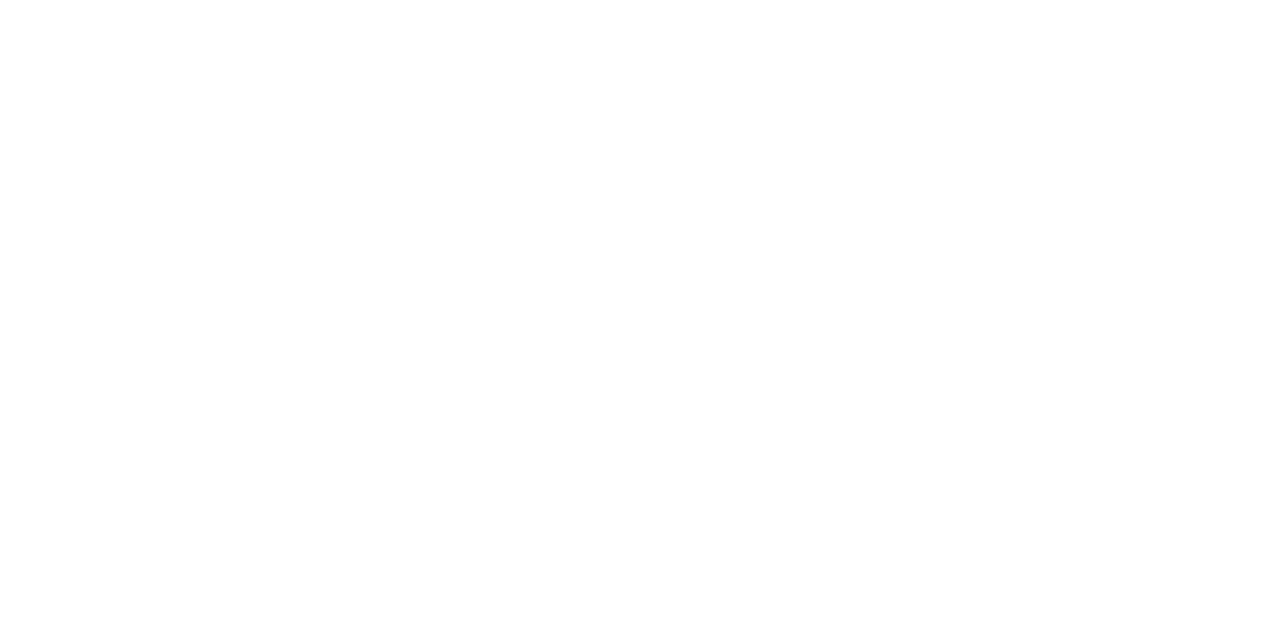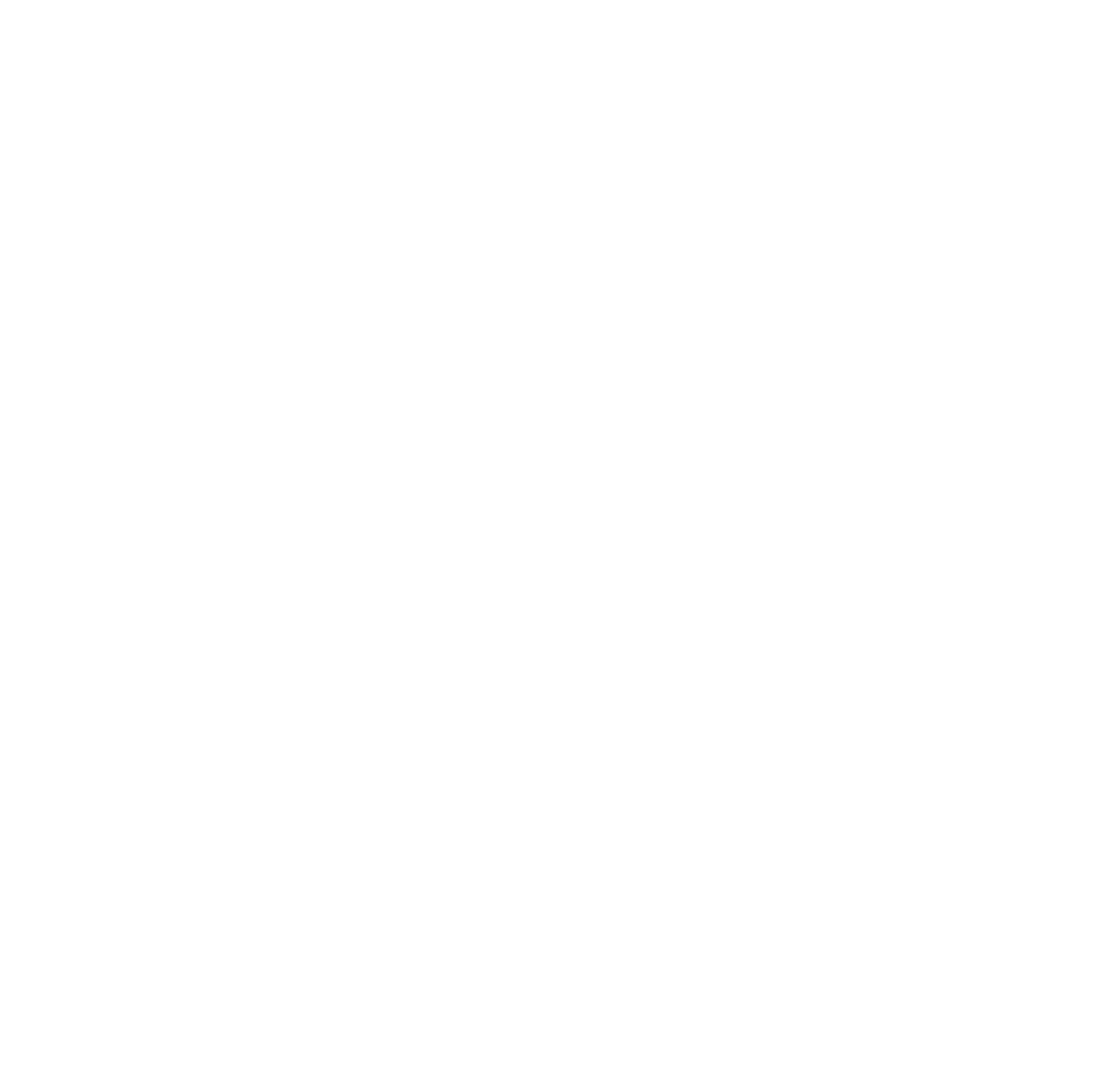InGallery
арт-пространство CUBE.MOSCOW, ул. Тверская, 3
здание отеля The Carlton, -2 этаж
стенд 13
вход по билетам, их можно приобрести на месте
или на сайте CUBE.MOSCOW
16+
арт-пространство CUBE.MOSCOW, ул. Тверская, 3
здание отеля The Carlton, -2 этаж
стенд 13
вход по билетам, их можно приобрести на месте
или на сайте CUBE.MOSCOW
16+
ПРО ВЕ(Щ)НОСТЬ
07.03 - 19.04
Мария Шалито
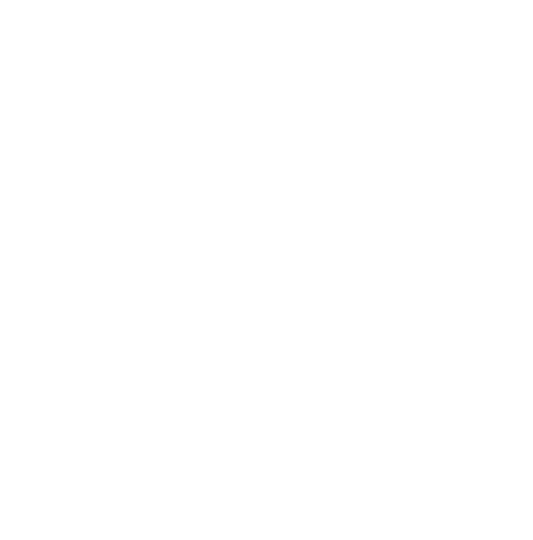
Игра слов в названии выставки подразумевает разные понятийные цепочки.
Вещность — вечность — весть; возможны и иные варианты. «Вещь», взятая крупно, сама вытягивает из себя культурный шлейф, она не хочет быть просто вещью, а хочет — то ли идеей вещи, ее платоновским эйдосом, то ли вещью, представительствующей за весь порядок вещей и взывающей к воспоминанию о нем. И ее притязания оправданы.
Часто (не всегда, но часто) это пастели. Техника, которая генетически адресует к миниатюре — летучая пыльца, едва способная удержать память, — а здесь метровые квадраты, и летучесть запечатана толстым стеклом. Там, под стеклом, как в музейной витрине, в дистиллированном и переливчатом сумраке живут ничьи уже вещи — висят на вешалках с инвентарными бирками (то есть введение текста с простой, вероятно, целью разнообразить фактуры порой прочитывается как значимый жест пояснения, экспликации). Они отбрасывают тени, которые тоже важны: тень есть некая отсылка к материальной
«телесности» самого предмета — будучи выключен из бытовых контекстов, он остается
в памяти как целое. Когда же такой контекст вроде бы подразумевается — например, шкаф стоит в комнате — то пространство этой комнаты перестает быть рассчитанным на естественные движения: оно превращается в гадательную, несколько сновидческую среду, — шкаф не то чтобы стоит, он стоял когда-то, а теперь вспоминается как смутный образ.
Обратная сторона этой работы с памятью (или с тенями памяти) – в коллажах,
вышивках и «малой графике».
Внятный ассоциативный ряд — история искусства, чьи экспонаты в каком-то смысле давно пребывают не вполне в статусе вещей: они «по закону» принадлежит вечности
и, собственно, являются ею. Но их фрагменты или даже просто имена авторов могут сделаться личными «секретиками» (эта детская игра тут тоже вспоминается) — посредством их перевода в иной регистр и на иной язык. В визуальных воспоминаниях о картинах Пьеро делла Франческа, Рогира ван дер Вейдена или Джованни Беллини исходная живопись словно бы растворяется — то в откровенном «истаивании» и развеществлении былой фигуративности, то в пустотах изобразительной ткани, прочитываемых как утраты связной памяти или ее сознательное «запечатывание», то в палимпсестном напластовании фактур, где почти нечитаемые знаки письма вторгаются в изображение. Здесь присутствует сложно рефлексируемое переживание времени — и времени в разрыве «вечное -сиюминутное» (когда, например, разноязыкие газетные тексты включены в «оммаж»),
и времени, напротив, стремящегося стать единым в самой длительности вышивания евангельских текстов.
В общем, история про вещи оказывается историей про всё сразу. Про память, которая вызывает вещи к жизни, — а еще про зрение: конкретно про художническое зрение, память аккумулирующее.
текст: Галина Ельшевская
Вещность — вечность — весть; возможны и иные варианты. «Вещь», взятая крупно, сама вытягивает из себя культурный шлейф, она не хочет быть просто вещью, а хочет — то ли идеей вещи, ее платоновским эйдосом, то ли вещью, представительствующей за весь порядок вещей и взывающей к воспоминанию о нем. И ее притязания оправданы.
Часто (не всегда, но часто) это пастели. Техника, которая генетически адресует к миниатюре — летучая пыльца, едва способная удержать память, — а здесь метровые квадраты, и летучесть запечатана толстым стеклом. Там, под стеклом, как в музейной витрине, в дистиллированном и переливчатом сумраке живут ничьи уже вещи — висят на вешалках с инвентарными бирками (то есть введение текста с простой, вероятно, целью разнообразить фактуры порой прочитывается как значимый жест пояснения, экспликации). Они отбрасывают тени, которые тоже важны: тень есть некая отсылка к материальной
«телесности» самого предмета — будучи выключен из бытовых контекстов, он остается
в памяти как целое. Когда же такой контекст вроде бы подразумевается — например, шкаф стоит в комнате — то пространство этой комнаты перестает быть рассчитанным на естественные движения: оно превращается в гадательную, несколько сновидческую среду, — шкаф не то чтобы стоит, он стоял когда-то, а теперь вспоминается как смутный образ.
Обратная сторона этой работы с памятью (или с тенями памяти) – в коллажах,
вышивках и «малой графике».
Внятный ассоциативный ряд — история искусства, чьи экспонаты в каком-то смысле давно пребывают не вполне в статусе вещей: они «по закону» принадлежит вечности
и, собственно, являются ею. Но их фрагменты или даже просто имена авторов могут сделаться личными «секретиками» (эта детская игра тут тоже вспоминается) — посредством их перевода в иной регистр и на иной язык. В визуальных воспоминаниях о картинах Пьеро делла Франческа, Рогира ван дер Вейдена или Джованни Беллини исходная живопись словно бы растворяется — то в откровенном «истаивании» и развеществлении былой фигуративности, то в пустотах изобразительной ткани, прочитываемых как утраты связной памяти или ее сознательное «запечатывание», то в палимпсестном напластовании фактур, где почти нечитаемые знаки письма вторгаются в изображение. Здесь присутствует сложно рефлексируемое переживание времени — и времени в разрыве «вечное -сиюминутное» (когда, например, разноязыкие газетные тексты включены в «оммаж»),
и времени, напротив, стремящегося стать единым в самой длительности вышивания евангельских текстов.
В общем, история про вещи оказывается историей про всё сразу. Про память, которая вызывает вещи к жизни, — а еще про зрение: конкретно про художническое зрение, память аккумулирующее.
текст: Галина Ельшевская
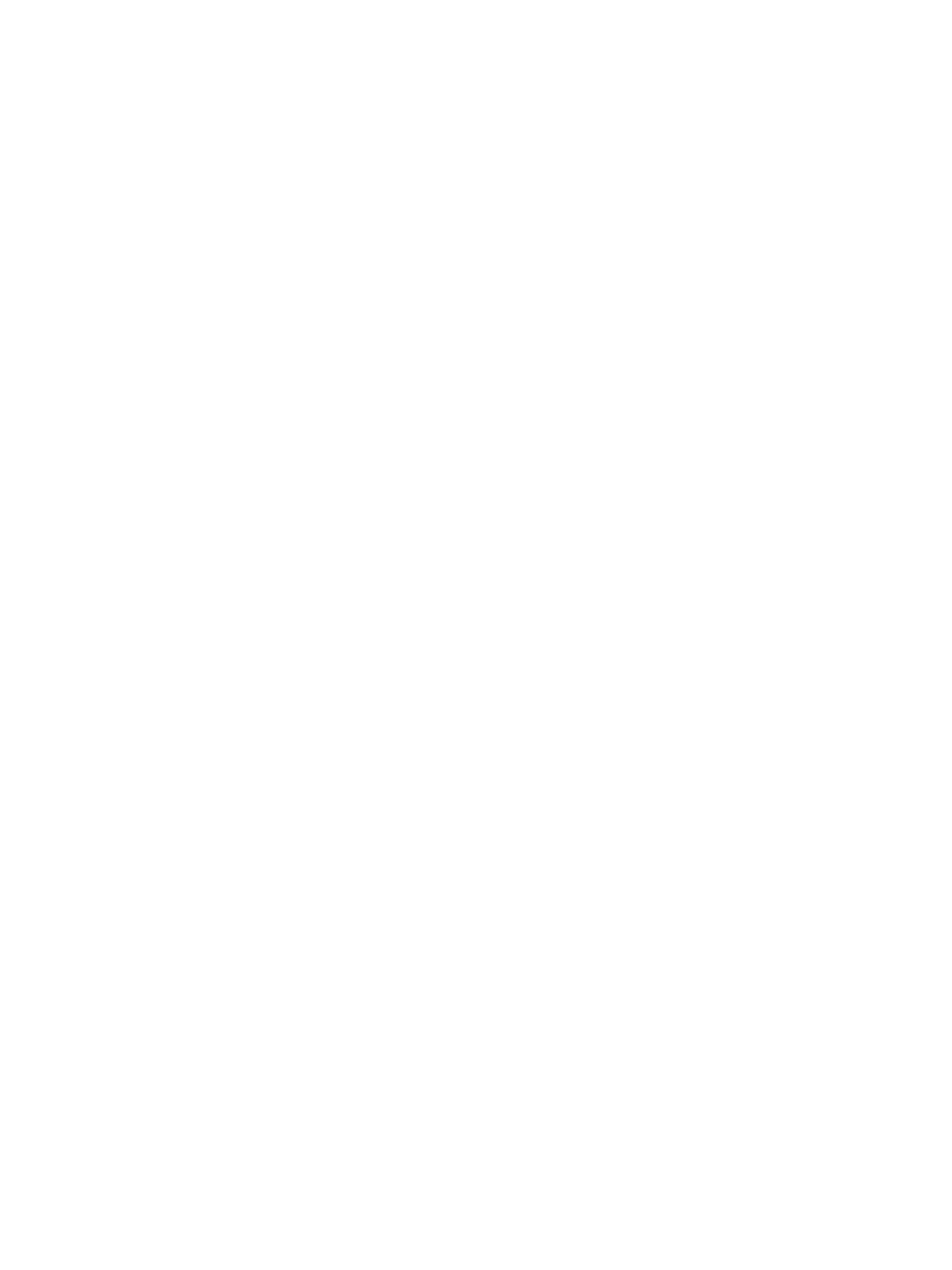
Мария Шалито
«Работая, я размышляю о жизни. И эти работы — результат моих размышлений и способ благодарения. Отдельной цели нечто создать у меня нет. Создаёт сама жизнь, в своём темпе, его нельзя форсировать. Меня вдохновляют образы пространства, в котором что-то вот-вот произойдёт; одежды, которые живут в одиночестве, храня тайну своего происхождения и бытования; священные тексты, произведения мастеров искусства. Любуясь творениями Бога и гениев, я совершаю некие действия, и так появляется вышивка, коллаж-импровизация или рисунок. Я предпочитаю оставаться в камерном, личном регистре. Мои работы редко бывают закончены, как правило, они находятся в процессе постоянного становления. Я приглашаю замедлиться, всмотреться и вслушаться в едва уловимую жизнь окружающего мира, открыть глубину в его мимолётных состояниях. Особенно меня притягивает несовершенство: пустыри, сколы на штукатурке, слой краски, отходящий от стены и обнажающий напластования времён. Это настоящий язык, который я стараюсь услышать и понять. На котором я хочу говорить» (с)
Мария Шалито
Мария Шалито
Вернуться назад